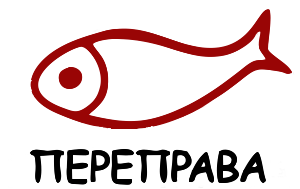Есть такой известный советский фильм – «Театр». В нем главную роль исполняет латышская актриса Вия Артмане. Ее героиня – тоже актриса. И вот что интересно: даже в быту, не на сцене она не принадлежит себе. Она постоянно перевоплощается в когда-то сыгранные роли, то и дело меняет наработанные маски. И даже влюбившись, продолжает играть в любовь, а не жить ею. Ее настоящая личность потеряна, размыта, растаскана по сотням персонажей. Внутри актрисы – пустота, внутренняя расщепленность, полная безосновательность. Это – трагедия. Дело в том, что профессиональное лицедейство постепенно размывает Богом данную человеческую личность на мозаику поддельных искусственных образов, порождает шизофрению души. Именно поэтому христианство отрицательно относится к лицедейству. До революции запрещалось даже хоронить актера на православном кладбище. Тем не менее, сегодня в России есть православные театры. Парадокс? Уступка времени? Противоречие? На этот вопрос развернуто отвечает художественный руководитель московского театра русской драмы «Камерная сцена», заслуженный деятель искусств, академик РАЕН Михаил Щепенко. Его театр работает именно в православном направлении.
– Как творческий коллектив, мы существуем уже более тридцати лет, а как театр профессиональный, справляем в этом году свой двадцатилетний юбилей. Серьезная дата. Чем характерен наш театр? Он прошел разные периоды. Поначалу я, например, был атеистом. Да, первый этап в жизни театра – а их было три – социальный протест. К строю я относился критически, поскольку ощущал, что свободное слово было зажато, запрещено. Я искал выход. Театр, в отличие от всех других видов искусства, имеет особые возможности выразить отношение к миру – жестом, интонацией, пластикой. Все это и определило мой выбор театра как оптимального способа самовыражения. Однако прошло лет пять, и я понял, что путь социального протеста – бесперспективен. Более того, он… грешен. В нем был исключительно сильно представлен момент отрицания, а оно – бесплодно. А поскольку мы с таким отрицанием без конца упирались в тупик, то возникало уныние. Я тогда не понимал, что это – грех, но уныние разматывало и другие негативные состояния.
Затем довольно долго я признавал бытие Божие лишь на рациональном уровне. И находился в состоянии лирического пушкинского героя из стихотворения «Безверие», когда «ум ищет божества, а сердце не находит». Вообще путь к христианству, к православию для нас в тех обстоятельствах был почти немыслим. И мы пошли, к сожалению, традиционным для нашей интеллигенции путем – через восточные культы. Мы очень серьезно ими занимались. Это был момент даже некоего внешнего окрыления. И только когда мы поняли, что находимся в состоянии «прелести», то есть, по-православному, в обольщенном состоянии духа, то все прекратилось само собой. Восточные культы раздувают твою «значимость», заменяют Живого Бога абстракцией и упраздняют традиционное понятие греха. Занимаясь подобными культами, ты постепенно теряешь внутреннюю адекватность и не видишь того, что на самом деле разъедает тебя изнутри – нажитые страсти, грехи. Но самое главное и страшное – это безудержный культ «я», который полностью заменяет тебе Бога. И все же один положительный момент – после критического осмысления всего происходящего с нами – мы для себя вынесли. В сердце пришла вера, что душа бессмертна. Впоследствии мы все-таки еще как-то пытались совместить наши агни-йоговские практики с христианством по принципу «Розы мира» Даниила Андреева, но, слава Богу, поняли, что это совершенно разные вероучения. Это произошло лет двадцать назад, когда и был создан театр. С тех пор мы искренне стремимся создавать театр, который угоден Богу. Стараемся утверждать христианские ценности не только в искусстве, но и в жизни. Человек должен реально бороться за те идеалы, которые исповедует. Только тогда он имеет внутреннее право затрагивать эти темы в искусстве.
Могу заметить, что в трех периодах нашей жизни: социального протеста, увлечения восточными религиями и, наконец, прихода к православию (надеюсь, до конечного нашего бытия здесь, на земле) – было и нечто общее – для нас искусство никогда не делалось кумиром. Большинство художников исповедуют идею, что надо служить искусству. Ромен Роллан, например, писал, что искусство ни нравственно, ни безнравственно. Оно – «как солнце». В общем, есть некая эстетика, искусство, которое само все собой измеряет и которым все измеряется. И художник в этом случае тоже превращается в кумира, которому служат. Скажем, вечер Пастернака. Ставится его портрет, возжигаются свечи, и вечер превращается в действо, в мистерию.
Я изначально понимал, что искусство – это своего рода оружие. Да, у него есть свои законы, глубокие и тонкие. Их очень трудно постичь. И все равно – искусство есть служение чему-то.
– Что же такое театр по своей сути? С тех пор, как он возник, и до сего дня – изменился ли он?
– Под словом «театр» понимаются совершенно разные вещи. Недаром сказано: весь мир – театр. И театр – весь мир. Например, театр Гротовского, которого считают гением конца ХХ века в театральном мире, – совсем не то, что театр Станиславского. Особым является и театр Брехта. Конечно, нечто общее присутствует. То есть некие люди находятся на сцене, между тем как другие смотрят действо и его воспринимают. Да, нечто общее есть, но по сути театр может развращать и театр может возвышать. Как зародился театр, мы не знаем. Когда-то он был ритуалом и совмещался с религией. Древнегреческий театр вышел из мистерий Дионисия. Вообще, исторически театр и Церковь находились в очень сложных взаимоотношениях.
– Эту тему мы, если можно, затронем особо, а сейчас ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Сегодня актер и журналист – одни из самых популярных людей в обществе. О них много говорят, залезают в личную жизнь. Но по-настоящему о душе актера и его глубинных внутренних переживаниях мало кто знает. Да и не очень-то интересуются. Там, внутри души – всегда серьезные проблемы, а сегодня больше волнует эпатаж, яркость, эффект, поверхностность, потребительская буффонада. Что можно сказать о душе актера?
– Как театр может быть вертепом, носителем разврата или же почти храмом искусства – наподобие театра Станиславского, так и актер. Он либо служитель высших идеалов, либо паяц. И грань эта – достаточно зыбкая.
– В зависимости от роли?
– Нет. Все зависит от позиции самого художника-актера. В некотором роде в каждом актере сидит паяц. То есть в нем, в его жизни и искусстве есть обязательный момент игры. Театр – это игра. Она происходит не по правде, не по-настоящему. Это – проигрывание. А если говорить о настоящем актере, то думаю, что он находится в очень сложном состоянии. В плане отношения к духовности. Известно, что путь спасения очень узок. В театре он – уже узкого. Искусство – тоже ведь искушение, искус. Очень скользкий путь. Почему? Да потому что художнику практически невозможно преодолеть искушение любоначалием – самой утонченной властью над душами людей, которая может быть сравнима только с властью священника. Власть денег – это некое насилие. Политическая власть – просто насилие. А тут – такая власть, когда люди тебе отдаются добровольно. Поверьте, это предельно сладкое чувство. И избежать этого признания, сказать, что я не испытываю радости от славы, от аплодисментов, будет неправдой. Например, спектакль «Конь вороной» – наша боль за Отечество. Это – Савенков. Сложная личность, террорист. Непростой спектакль. И у этого спектакля есть дух. Однако нам не надо было готовиться к нему, потому что нам было искренне больно за нашу страну. За всю междоусобицу и кровь.
Так вот – играем мы этот спектакль раз, играем другой. И, в конце концов, что получается? Что делает актер за сценой? Он слушает, как в зале откликнулись на его игру, как ее оценили и восприняли. И если там хлопают хоть чуть-чуть не так – ты расстраиваешься. А если есть крики «Браво!» – наслаждаешься своей властью. Она – искушение для всех актеров, в том числе и настоящих. Что такое настоящий актер? Помимо серьезных творческих качеств, он обладает реальной сверхзадачей – не приобретать эту власть, а испытать реальную боль за то, что происходит с нами. Если эта боль, помимо таланта, в актере есть, значит, это настоящий художник, А если я выхожу только для того, чтобы понравиться зрителю, я – паяц, не более того, даже если и играю при этом в серьезных спектаклях.
– Существует понятие лицедейства. У Церкви к нему традиционно негативное отношение. В чем причина? Устарела эта позиция в связи с развитием театра или все остается по-прежнему?
– Есть мнение – и оно звучит даже в среде серьезных богословов, что святитель Иоанн Златоуст отрицал античный театр эпохи упадка, когда там преобладали эротика и насилие, когда театр был сугубо развлекательным, потакал низким животным началам в человеке. А вот театр Станиславского – уже иной. Однако это упрощенное мнение. Церковь относилась к театру сложно от Иоанна и до Иоанна. То есть от Иоанна Златоуста – до святого праведного Иоанна Кронштадтского, который был практически современником Станиславского. Вот вам весьма показательный момент. Этот великий святой написал книгу, которую назвал «Моя жизнь во Христе». А Станиславский был автором книги «Моя жизнь в искусстве». Таким образом, конфликт тут присутствует даже в названии. Поэтому проблему никак нельзя воспринимать упрощенно. Что был, дескать, когда-то плохой театр и до сих пор есть плохой театр. А есть и хороший, где все проблемы сняты. Все – не так просто. Театр, в самом широком смысле этого слова, как и кинематограф, обращается в основном к животному началу человека и эксплуатирует его. Причем делается это очень просто.
Есть отличная притча. Древнегреческий учитель-перипатетик гуляет со своими учениками и обучает их премудростям. Навстречу им идет блудница. Она говорит: «Вот ты учитель, ходишь тут со своими учениками и учишь их чему-то высокому. А я любого из них сейчас поманю пальчиком, и он пойдет со мной». Учитель отвечает: «Конечно, пойдет. Но ты-то поманишь вниз, а я веду вверх».
Так что вести вниз всегда очень просто. Это искусство блудницы, каковым сейчас театр в огромной степени и является. А повести вверх – это и есть истинное призвание искусства, осуществить которое – ох, как не просто.
Конечно, проблема лицедейства существует. Она есть и в театре, который ставит перед собой серьезные цели. В чем же состоит ее опасность?
У одного афонского Отца Церкви спросили: в чем самые главные беды нашего времени? Он сказал: первое – потеря благодарности, второе – утеря целомудрия, разделение человеческой личности. Личность становится мертвой. Только когда человек цел, он жив. Эта раздвоенность, а точнее раздробленность человека – беда нашего времени. Задача христианского спасения связана с преодолением этой раздробленности. Актер находится здесь в очень уязвимом положении. Сама особенность его профессии состоит в том, что сегодня он – одна личность, завтра – другая и так далее. Если человек целиком живет в искусстве, то у него – сто или даже двести таких образов. В системе Станиславского есть пять основных принципов. Главный из них: перевоплощение актера в образ. Учение о перевоплощении. Стать другим. Если ты не идешь этим путем и не создаешь образ, ты, в общем-то, и не актер. Когда ты играешь самого себя, это не искусство. Искусство – это именно создание образа и высказывание через него отношения самого художника к этому образу.
 С дроблением личности у меня была своя горькая практика. У нас в театре, как я уже говорил, был спектакль «Конь вороной» по одноименной повести писателя-террориста Савенкова. Мы сделали спектакль не потому, что симпатизировали террористу. Просто там была ярко выражена боль за Отечество. Эта боль присутствует и в главном герое, которого я играл. Он страдает в своих переживаниях о битве за Родину. Своими руками люди убивают мать, Россию. Все это четко представлено в «Коне вороном». Чтобы высветлить тему, мы ввели в спектакль стихи Максимилиана Волошина.
С дроблением личности у меня была своя горькая практика. У нас в театре, как я уже говорил, был спектакль «Конь вороной» по одноименной повести писателя-террориста Савенкова. Мы сделали спектакль не потому, что симпатизировали террористу. Просто там была ярко выражена боль за Отечество. Эта боль присутствует и в главном герое, которого я играл. Он страдает в своих переживаниях о битве за Родину. Своими руками люди убивают мать, Россию. Все это четко представлено в «Коне вороном». Чтобы высветлить тему, мы ввели в спектакль стихи Максимилиана Волошина.
В общем, спектакль был сильный. Я играл там полковника Юрия Николаевича. Это – автопортрет самого Савенкова, главы эсеров. Человека, на совести которого много крови. Личности страшной, обладавшей почти гипнотическим влиянием на других. Даже убийство Каляевым великого князя Сергия было организовано именно Савенковым.
По системе Станиславского я должен был перевоплотиться в этот образ. При этом я, конечно, не думал, что со мной случится. Создание образа – вещь очень непростая. Недаром Ницше говорил, что есть искусство от Бога и есть – от дьявола. Силы вертикального плана – светлые и темные, – несомненно, участвуют в творчестве как таковом. Но это тема совершенно особая. И я, в конечном счете, смог сказать: «Аз есмь» (так Станиславский формулировал полноценное существование в образе). Я понимал, что создан образ. Это особое чувство. Спектакль игрался с успехом. Однако через некоторое время я почувствовал, что в жизни я начинаю мыслить и поступать, как мой герой. То, что раньше у меня было под запретом, под спудом, получило некое греховное разрешение.
Я очень обеспокоился этим и стал серьезно думать о феномене перевоплощения и лицедейства. И понял: грех его как раз и состоит в том, что человек раздваивается и усиливает в себе те отрицательные качества, которые у него раньше были в зародыше, то есть, как говорится, на своем месте. А тут они неожиданно и спонтанно начинают довлеть.
Я стал размышлять еще дальше и сделал вывод, что перевоплощаться в образ не нужно. У Станиславского есть термины – «искусство представления» и «искусство переживания».
В обоих случаях речь идет тоже об искусстве, а не о ремесле. Ремесло – это плохо и примитивно. Как бы это объяснить? Вот актеру говорят: ты должен страдать! И он тотчас начинает страдать и плакать. Причем ему неважно, по какому поводу он страдает. Его эмоционально-сенсорная природа подвижна, в чем-то натренирована. Человек может плакать, хохотать, страдать – все что угодно. Но это страдание не конкретно. Оно – «вообще», то есть ложь. Станиславский был к этому ремесленничеству очень чуток. Отсюда его знаменитое «не верю!».
Он четко разделял правду и ложь. Цель его системы – правда чувства на сцене.В искусстве переживания актер всякий раз переживает чувства, которыми живет его герой. Искусство представления – когда актер переживает на стадии репетиционной, а потом предъявляет зрителю некие результаты – переживания, и можно сказать, что здесь он уже холоден. Вахтангов считал, что нельзя переживать, не представляя, и представлять, не переживая. С его точки зрения, должен быть синтез переживания и представления. Это в какой-то степени имеет отношение и к перевоплощению, но только отчасти. Я как-то встретил у Щепкина, а потом, как ни странно, и у Михаила Чехова термин «сочувствующий актер». Переживание – это когда я переживаю то, что переживает мой герой. Сочувствие – это когда я определенным образом отношусь к нему. При этом я не становлюсь им, нахожусь на каком-то расстоянии, он очень понятен, близок, я ему глубоко сочувствую, но в него не воплощаюсь.
Есть такой феномен: режиссер, смотрящий спектакль. Это отдельный театр. Если смотреть не на сцену, а на режиссера, то можно увидеть всю его мимику и эмоции. Он все как бы проговаривает и делает за актера. То же и кукловод. Наблюдать за его лицом очень интересно. Он ведет куклу, кукла живет – и он живет с ней. Кто он – кукла? Нет, он на расстоянии. Но он выступает как бы за нее. Кстати, то же самое присутствует между врачом и больным. Некое уподобление. Да, наверное, это самый приемлемый термин. Мы не можем стать другой личностью. Она – таинственна. Мы не можем перевоплотиться. Допустим, я стал Юрием Николаевичем. На самом деле я, конечно, не стал им. Я только возбудил в себе то, что имел прежде и что дремало во мне. Человек – палитра, в нем имеются все страсти и состояния, но в разных пропорциях. Что-то представлено выпукло, что-то – совсем в зародыше. И всякое качество можно развить. Так что термин «перевоплощение» – вообще онтологически неточный. Хоть и заманчивый. Мы не можем стать другой личностью. Реинкарнация – неправда. Мы можем только уподобиться кому-то. Путь христианина состоит в уподоблении Всевышнему. И здесь просматривается некоторая общая аналогия с нашей проблемой – на человеческом уровне.
Тем не менее, в актерском искусстве даже уподобление не лишено риска расщепления личности – если говорить по-медицински – шизофрении. Искусство актера – добровольная шизофрения. И все-таки когда я понял, что уподобление лучше перевоплощения, а сочувствие – переживания, то многое встало на свои места. Правда, для непосвященного это непонятно. Все познается только на практике. Более того, этот факт остается закрытым даже и для многих актеров. В актерской практике существуют совершенно жуткие технологии «размазывания» личности. Как у того же Гротовского. Или возьмем петербургского режиссера Додина. Да, он большой талант. Но его кафедра в Санкт-Петербургской академии театрального искусства занимается тем, что отключает сознание человека. Слово второстепенно, себя нужно выразить телесно. Организм должен выразить все, что человек обычно выражает через речь, сознание, разум. Актер делается глиной, пластилином. Лепи из него, что хочешь. Пожалуйста! Он сыграет тебе абсолютно все. Но в нем отсутствует личное отношение к своему образу. Он действительно как глина. И театр в таком случае выявляет не «жизнь человеческого духа» (по Станиславскому), а превращается в демонстрацию нервных процессов и физиологии. Причем нервы там такие, что они могут возбуждать и зрителя – вплоть до потрясений. Я этот метод категорически не принимаю, но сегодня он имеет место. Если человек попытается решать эти вопросы как христианин, то для него более приемлемым будет путь, о котором я уже говорил.
Возвращусь к своему опыту. У меня сначала был Савенков – Юрий Николаевич, а потом – царь Феодор. Мы его трактуем как святого на троне. Стать святым – что может быть лучше?! Перевоплотиться в святого!.. В самой этой идее есть момент «прелести», духовного искажения. Ну как я могу стать святым, если мне это неведомо в силу иного образа жизни? Невозможно. А вот если делать это по принципу сочувствия, то все будет по-другому. Я так и играл, создавая образ царя Феодора именно на основе сочувствия. То есть я им не становлюсь, а лишь сочувствую ему. Он существует у меня на расстоянии. Но зритель этого не замечает. Как это достигается? Здесь есть что-то таинственное. Но главное – это сочувствие. Художник высказывает свое отношение к миру. Если он полностью становится образом, то выразить данное отношение он уже не в силах. Я же, находясь в образе, сочувствуя ему, выражая свое отношение, делаю это для какой-то цели.
А зритель всего этого не видит. Интересно, что после царя Феодора я чувствую какую-то легкость. Мне говорят: вот, вы сыграли такую тяжелую роль, вам надо лечь и отходить. Неверно. Да, физическая усталость есть, но сказать, что я нахожусь в каком-то невменяемом состоянии, нельзя. Ни в коем случае. Мастеру, как говорил тот же Станиславский, должно быть легко. А легкость возникает, когда есть обозначенная мной позиция. Постигается она интуитивно. Настоящими актерами она как бы нащупывается. Итак, сочувствие помогает мне не страдать от расщепленности сознания. Я просто не делаюсь тем, кого играю. И хотя отличить сочувствие от перевоплощения на глаз очень сложно, все это вполне реально. И в этом залог мастера – сделать настоящее произведение искусства. Не сливаясь с персонажем, выразить к нему свое отношение.
– Душа, заложенная в актере Господом, в данном случае не подвергается пагубному искажению?
– Опасность искажения в данном случае значительно снижается. Однако ничего до конца определенного и тут тоже сказать нельзя. Например, у Гротовского исчезло понятие игры. Но ведь игра – она обучает. Мы не можем не играть во что-то – особенно когда являемся юными существами. Проигрывается целый ряд ситуаций, которые создают программу действий на дальнейшую жизнь. Однако в лицедействе как в игре есть следующий проблемный аспект. Природа искусства – страстная. Если я не испытываю страсти по формуле Станиславского: «цель системы – истина страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых драматургом обстоятельствах», то моя игра обречена на провал. Если искусство бесстрастно, оно как бы лишается своего покупателя, потребителя. Если искусство не заражает – а это невозможно сделать, если ты холоден, – оно становится невостребованным. Так что заражение страстью – это тоже проблема греха лицедейства. Есть и другой аспект – виртуальной, вымышленной реальности, которая и для актера и для зрителя часто делается важнее реальной жизни.
При замене принципа перевоплощения в образ на сочувствие ему страсть не исчезает. Но что такое страсть? Она же по-разному понимается. Страсть – это не только какое-то греховное состояние. Она может стать и синонимом силы чувства. Не греховного чувства, а эмоций. А они необходимы для любого человека. Вне сильного чувства пророк может ли убедить кого-то в своих словах? Есть и сильная любовь к Богу. И это тоже чувство.
– Когда я вошел в ваш театр, актеры молились. Это что – в порядке вещей?
– Чин молитвы складывался с течением времени. Мы возносим молитву наиболее близким нам святым – и особенно преподобному Сергию Радонежскому, потому что мы состоялись как театр 7 октября, в день праздника святого. В молитве мы испрашиваем благословения на наступивший день. Это христианская духовная практика, которая предваряет дело. Однако насилия здесь у нас никакого нет. Молится только тот, кто хочет этого и кому это нужно.
– Молилось довольно много людей. И как-то очень серьезно. Складывается впечатление об уникальной атмосфере театра. Ничего подобного я нигде не видел. Какие у вас отношения с Русской православной церковью, со священством? Слышите ли вы от них что-либо критическое или, напротив, позитивное в свой адрес?
 – К нам ходит много священства – и не только из Москвы. Когда проводятся Международные Рождественские чтения – а это очень авторитетный общественно-церковный форум, в котором принимают участие представители российской власти и всех наиболее значимых сегментов общества – у нас всегда работает секция «Православие, воспитание, театр». Вторая секция – «Семья и театр». Некоторые священники создают у себя на местах театры наподобие нашего. Снимают на камеру наши спектакли как образец для подражания. Так что в целом отношение – позитивное. В одном из Пасхальных посланий Патриарха сказано, что миссионерствовать нужно всюду. А значит, и в театре тоже. Чем мы, собственно, и занимаемся, не закрывая при этом глаза на остающиеся проблемы.
– К нам ходит много священства – и не только из Москвы. Когда проводятся Международные Рождественские чтения – а это очень авторитетный общественно-церковный форум, в котором принимают участие представители российской власти и всех наиболее значимых сегментов общества – у нас всегда работает секция «Православие, воспитание, театр». Вторая секция – «Семья и театр». Некоторые священники создают у себя на местах театры наподобие нашего. Снимают на камеру наши спектакли как образец для подражания. Так что в целом отношение – позитивное. В одном из Пасхальных посланий Патриарха сказано, что миссионерствовать нужно всюду. А значит, и в театре тоже. Чем мы, собственно, и занимаемся, не закрывая при этом глаза на остающиеся проблемы.
У нас был один заслуженный актер, который сейчас от нас ушел. Он играл Бориса Годунова в «Царе Феодоре». И представляете, он его полностью оправдывал. Он преподносил образ Годунова так, что тот вроде как бы и не мог поступить иначе – и все сделал правильно. Это называется – встать на позиции персонажа. Конечно, актер в чем-то неминуемо симпатизирует своему герою, это, если хотите, христианский принцип: люби ближнего своего, даже если он – грешник. Но здесь упомянутый мной актер пошел дальше. Он оправдал грешника. А нам в Евангелии заповедано – грешника люби, а грех ненавидь. Нельзя отождествлять свою позицию с позицией образа. Это неправильно. В таком раскладе нет самого главного – личности художника, которая проявляется в отношении к создаваемому образу. Именно так. Ты обязательно должен нести к нему определенное отношение. Годунов – объективно отрицательный образ. И оправдывать его ни в коем случае нельзя.
– В других театрах работают принципы, совершенно не похожие на ваши. Там бурлят страсти и извращения. Недавно я слушал интервью одного английского режиссера, сделавшего спектакль, в котором женские роли непременно играют мужчины. И он, судя по всему, переплюнул самого Станиславского, заявив, что требует от актеров в женских ролях не просто играть женщин, а быть ими. При этом чувствовалось, что он испытывает экстаз от каких-то одному ему понятных восторгов. Когда актеры меняются полом и на сцене торжествует напряженный разврат, то светский театр возвращается к своим темным истокам – в грубую порочную античность. Это – знак того, что он не выдержал своей исторической миссии.
– Да, согласен. Сейчас в целом театр – это училище страстей, добровольный ад. Наверное, так. Все это обставляется красивыми словами. Недавно в Мытищах был международный театральный фестиваль. Фестиваль серьезный. Мы играли там «Царя Феодора». Потом в беседе со мной одна зрительница, театральный критик, после ряда комплиментов в наш адрес сказала: «В этом театре чувствуются внеэстетические установки». Словно в других театрах этих установок нет! Просто у нас они другие, не такие, как у них. И зрители это очень хорошо чувствуют. Так что жизнь идет. А точнее, непрекращающаяся борьба за искусство, которое не опускает душу в бездну низких страстей, а созидает ее.
Беседовал Валентин Летов
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.