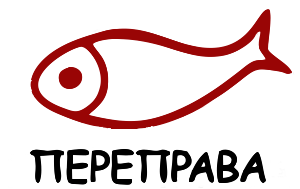…О, если бы верно взвешены были вопли мои,
и вместе с ними положили
на весы страдание моё!
Оно верно перетянуло бы песок морей!
(Иов., 6:2–3)
Она очнулась с твёрдым ощущением, что над нею только что пролетел Господь.
Это было странное чувство, как будто тебе дали надежду, а потом обманули, и тёмные пятна стынущих в ночи предметов, да и сама комната, полная мрака и тени, говорила о том, что Бога нет. Бога не было в офисе – там не было ничего, кроме топкой работы и пыли; не было в зеленеющих от работы и пыли лицах коллег; Бога не было в тесном, неприветливом автобусе, когда она возвращалась домой и, что самое скверное, Бога не было дома. Бога не было нигде. А теперь он пронёсся над нею, и она проснулась, чувствуя обиду и уже не могла заснуть, и ходила по комнате, где громкие полинявшие половицы скрипели вразвалочку и где невесело гудела тугая пустота.
В соседних комнатах спали её родные, и она боялась разбудить их, потому вскоре легла и притворилась спящей. Она лежала лицом к окну и, когда открывала глаза, видела, как чернилами текут по небу облака, и видела звезду. А потом вдруг почувствовала, что не может пошевелиться. Это было страшное чувство: дышала, но знала, что дышит не она, дышит – тело, и она не властна над ним. Хотела вскрикнуть, подняться, но тело не слушалось, тело вдруг выросло, удлинилось, и она не могла справиться с ним, как будто её душа воплотилась в мрамор.
Утром поднялась и, болезненно щуря глаза, вышла на кухню.
– Ночью ты мешала мне заснуть, – сказала мать.
– Прости, мне было нехорошо, – ответила издалека.
– Тебе всегда плохо, – сказала мать. – Думаешь, другим хорошо? Эгоистка, – сказала мать. – Мелкая, самовлюблённая эгоистка. Прости меня, Господи, что я такое убожество на свет родила. И дура, – сказала мать. – Не греми посудой.
Она уменьшила напор воды и старалась не греметь.
– Тупица, – сказала мать. – Кто же посуду под таким напором моет?
На улице, когда шла на работу, поскользнулась и чуть не упала в лужу, и это неожиданно придало ей странной, протяжной весёлости. Поэтому, придя в офис и услышав очередную грубую колкость, она только растерянно улыбнулась и, посмотрев на начальника удивлённо, прошла к своему столу, села, поглядела на картонный потрёпанный календарь, скомкала его, выбросила в корзину и попыталась раствориться в работе, но ночное ощущение обиды, страха и тихой радости не покидало её. Люди были несправедливы с ней. Она была хороша, красива, но её красота вызывала раздражение: слишком нежная, слишком светлая, ранящая. И не только во внешности, но и в каждом движении, в звуке её детского голоса, в безобидности умных нерадостных глаз, в её смехе и запахе была эта красота. Люди не любили её. Она была рассеянна, и коллеги смотрели на неё с насмешкой, злословили, когда допускала оплошность, злословили, когда пыталась исправиться, злословили просто так. На издёвки она отвечала сбивчиво, будто не понимала их, либо молчала и вызывала ещё большее раздражение и чувство злобного торжества. Люди не любили её, и она привыкла к этому. Не любили даже в семье: мать, пожилая развязная женщина, в молодости сильная, крепкая, к старости озлобившаяся в нищете, доводила дочь до слёз, часто била, под горячую руку швыряла утюги, тарелки, ножи; младшая сестра смотрела на неё с презрением; старший брат жалил гремучим ядом гадюки. Кроме неё, в семье никто не работал, и она отдавала без малого всю зарплату на нужды родственников – покупала лекарства для матери, оплачивала обучение сестры, ночные похождения брата – и часто ложилась спать на голодный желудок. У неё были подруги, но и те сплетничали за спиной, считая себя выше, глубже и умнее, как это часто делают случайные подруги. Мужчины либо ненавидели её за кажущуюся неприступность, либо, напротив, считали лёгкой добычей и засыпали пошлостями. И единственным человеком, который был добр с ней, оставался покойный отец.
Отец возвращался с работы поздно, когда она уже ложилась в кровать или молилась перед крохотным серебряным распятием, на котором Христос напоминал застывшую слезинку. Отец проходил на кухню, матерился, и жена материлась в ответ. Насытившись, отец покидал кухню, украдкой отворял дверь, высовывал голову в образовавшийся проём и говорил, изображая горечь: «А где моя доча? А нету дочи… А где доча? А нету дочи!..», после чего плакал, и она бросала молитвослов и бежала к нему, чтобы утешить. Иногда отец напивался, и она помнила, как он сидел на полу, в окружении полых бутылок, с исказившимся лицом падшего ангела, смотрел на неё и говорил о смерти. А потом вдруг переводил взгляд на иконы, и лицо его вытягивалось, темнело, углублялось, он поднимался, пошатываясь, срывал иконы со стены, швырял их на пол и топтал, приговаривая: «Вот он, ваш Бог. Ну что, Бог? Жри, жри, Господь Всемогущий…» После хватал кухонный нож, врывался в комнату, где запер семью, и кричал, что перережет всех чертей, которые исковеркали его жизнь.
Мать была груба с ней с раннего детства. Часто наказывала за поступки, на которые взрослые обычно улыбаются. И она, изначально робкая и добросердечная, точно протестуя, с возрастом сделалась ещё добрее, ещё мягче и, что ни странно, несчастнее.
Однажды отца увезли, и она навестила его в больнице. После операции отец лежал неподвижно на высокой койке, обёрнутый застиранными простынями и врачи говорили, что он выживет, а она знала, что он умрёт. У него было жёлтое лицо, покрытое сетью тонких отчётливых морщин, и ей казалось, что лицо сделано из древесины. Закатное небо горело в окне алым, поэтому воздух в палате алел. Она поднялась на цыпочки и поцеловала отца в губы, а потом её вывели в коридор, и отец умер.
Она часто навещала его могилу. Приходила на кладбище вечером и засиживалась допоздна, читая молитвослов или просто глядя на худенький невысокий крест, на котором не было имени покойного и не было даты смерти. Потому ей казалось, что отец жив, что он просто куда-то уехал, или же, напротив, казалось, что он умер давным-давно. Могила была чужой, и всё на кладбище было ей чуждо… Она часто приходила к отцу, и он отвечал на её визиты. Тихо подкрадывался, когда она спала, срывал одеяло и корчил страшные рожи, а она, испуганная, забивалась под кровать и молилась там, дожидаясь рассвета. Иногда входила в комнату и видела отца, сидящего на полу в пыли и паутине, и он тянул к ней руки, а она хотела, но боялась приблизиться. Тогда он начинал плакать и звать её, и она была готова подойти, но лицо отца резко менялось – он богохульствовал и отрекался от неё. В иное время видела отца, идущего по тёмной аллее. У него был усталый вид, и он грустно улыбался ей, а когда она подходила, чтобы обнять его, выхватывал из-за пазухи нож и говорил, что убьёт её, чтобы спасти от ада, и что он умер для того, чтобы его любимая доча жила. Она отбегала в сторону, становилась на колени и твердила, в спешке осеняя себя крестом: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…» Тогда наваждение покидало её и с возрастом оставило вовсе. С возрастом прошла и набожность: она уже не проводила вечерние часы на коленях, склонившись над ветхим молитвословом, не утешала себя мыслью, что Христос страдал за неё, а значит, и она должна потерпеть за Христа – ей казалось, что Господь умер. Об этом говорило всё вокруг, но чаще всего об этом говорила мать.
– Геля Господу молится, – говорила мать, откусывая от луковицы и заедая борщом. – Геля думает, что она кому-то нужна… Да, Геля?
– Геля думает, что Он её от матери спасёт, – язвил брат.
– А по-моему, она вообще думать не умеет, – вставляла сестра.
– А то бы и умела! Да на что ты, убожество такое, Богу-то нужна? Да по тебе геенна огненная плачет! Да ты посмотри на себя: ни умом, ни рожей не вышла. У святых, у верующих людей лики-то какие! А на тебя смотришь – плеваться хочется.
– Геля молчит. Геля притворяется, что не слышит. У Гели уши заложило, – сказал брат.
– Она думает, что умнее всех, – сказала сестра. – Да, Геля?
– Нет, я всё слышала, – ответила тихо.
– Ну и дура, – сказала мать. Брат с сестрой рассмеялись.
Ей казалось, что Господь умер: разве в силах человек каждодневно терпеть такие издевательства? Христос страдал, но страдал однажды. А она, она страдает всю жизнь. Где Ты, Господи? Ты спишь, Ты не слышишь меня? Ты мёртв? А был ли Ты, Господи? А есть ли? Если есть, то почему не утешишь меня? Почему не придёшь ко мне? Чем я плоха? Или я вправду так плоха, как говорит мама? Я вправду горда? Разве горда я? Разве сказала хоть слово обиды кому-то? Чем заслужила я Твой гнев? Чем я заслужила этот ад?..
Семья жила в нищете: мать выбила третью группу инвалидности и целыми днями не покидала дома; брат изредка подрабатывал на стройке; сестра поступала в вуз. Дом, где они жили, потихоньку разваливался, и она, не закончив института, устроилась на копеечную работу. После смерти отца атмосфера в семье накалялась с каждым годом: всё чаще вместе с бранью в неё летели тарелки и ножи, и однажды, попав в больницу с ранением предплечья, она притворилась пьяной и солгала врачам, сказав, что упала и наткнулась на металлический штырь. Мать принуждала её брать кредиты.
– Ты бы о сестре подумала, – причитала мать, делая скорбное лицо и покачивая им для убедительности, – ей же в вуз поступать, не чета тебе, дуре, учёной будет. Нельзя быть такой бессовестной эгоисткой, Геля. Вот не стыдно тебе в глаза мои смотреть? Не стыдно? Что отворачиваешься? Сты-ыдно… – Мать вставала и ходила по комнате. – Да как тебя только земля держит, я никак не пойму! И правду говорят, что нету Бога – был бы, давно бы тебя в могилу свёл! Все люди, как люди: честные, милые, смотреть любо! А ты? Мелкая, корыстная, наглая! И прекрати плакать, смотреть противно! Тут слезами горю не поможешь. Тут кнут нужен… – Мать поднимала металлический костыль, на который опиралась больше по привычке, и заносила над дочерью, но останавливалась и снова садилась в кресло. – Не буду руки об тебя марать, – говорила она, сплёвывая. – Ну что ты трясёшься вся, как сука неприкаянная? Что глазёнки свои слезливые вылупила? Ты в чьём доме живёшь? Ты в чьём доме живёшь, я тебя спрашиваю?
– Это и мой дом тоже… – шептала, вытирая слёзы.
– Это и мой дом тоже, – дразнила мать, неприятно подвывая на ударениях. – Да как бы не так! Не твой это дом, не любят тебя здесь. И если ты сестру свою без образования оставишь, колобком отсюда покатишься. Ясно тебе?
Она ничего не отвечала, только смотрела на мать глазами Богородицы и уходила к себе. Со временем она и вовсе перестала покидать свою комнату: душ принимала ночью; питалась наскоро и скудно за письменным столом; задерживалась на работе только для того, чтобы не сталкиваться с роднёй. Она приходила домой поздно вечером, когда семья ложилась спать и оставляла его рано утром, когда все ещё только поднимались. И всё же родные ухитрялись причинять ей боль. Мать, сидя на кухне в окружении детей, громко обсуждала несносное поведение дочери. Сестра поддакивала, а брат иногда заходил к ней в комнату, садился напротив и дразнил на протяжении нескольких часов.
– Здравствуй, Геля. Нам тебя очень не хватает. Что, не веришь? Правда, правда! Мы все соскучились по твоему постному лицу. Зачем ты покинула нас, Геля? Маме теперь некому косточки перемалывать, и она вот-вот примется за меня… Тебе меня не жалко? Знаешь, ты сегодня выглядишь неважно. Впрочем, намного лучше, чем всегда. У тебя, наверное, завёлся молодой человек. Геля, ты что – влюбилась?! Вот от кого не ожидал, так от тебя… С виду такая набожная девушка! И неважно, что насквозь прогнила изнутри… Кто он? Разнорабочий? А! Знаю, он – поэт! Конечно, поэт. И посвящает тебе сонеты. Не так ли? Вот видишь, покраснела, значит, я попал в точку. И познакомились вы не где-нибудь, а в Интернете. Да? Ве-ерно. Знаешь, почему я так решил? Да он бы просто поперхнулся, если бы видел тебя в реальности!.. Геля, дай на пиво. Ну не скупись, дай на пиво. Ты же моя сестрёнка? Сестрёнка… Дай на пиво, и я уйду… Или ты не хочешь, чтобы я уходил? Правильно, хо-очешь…
Она протягивала ему деньги. Принимая их, брат с сожалением смотрел в ладонь, клал деньги в карман, сокрушался, качал головой расстроенно и покидал комнату. А она плакала в подушку и засыпала ближе к рассвету, бледная, уставшая даже во сне. Так тянулось время, и вскоре к ней начали приходить мысли дремучие, недобрые. Изменилось её лицо: раньше изящная, она сильно похудела, осунулась; под глазами двумя неполными лунами повисли багровые отёки; и без того бледная кожа начала отливать чем-то чахлым, болотным. Она боялась подходить к зеркалу, зная, что выглядит старше своих лет. Ей казалось, что она должна умереть… Дремучие, недобрые мысли посещали её всё чаще. Они заставали её на работе, и она, погружённая в цифры, вдруг отвлекалась, мрачнела, с тоскою глядела на праздных, ленивых коллег; мысли настигали её в автобусе, где обычно была толкучка и где незнакомые люди казались ей ближе родных; мысли приходили к ней ночью, когда, глядя в темноту, она чувствовала, как неохотно бьётся её сердце, и где помимо этого острожного, надрывного биения не было ничего. Она больше не плакала, когда слышала оскорбления матери, когда терпела зубоскальство брата и грубые смешки младшей сестры, хотя сердце всё также скакало у неё в груди от горечи, от обиды. Сердце рвалось на волю, и она решила отпустить его… Усталой голубой собакой подкрадывался вечер, когда она, прибравшись на рабочем столе, расставив предметы по своим местам – потёртый бумажный календарь в форме покатой крыши поместила на краю столешницы; разложила бумаги по ступенчатым прозрачным лоткам; предметы письма оставила в столе, – и, нежно смахнув салфеткой пыль с безмолвного дисплея, вышла на улицу.
Была весна. Воздух пах радостью и хвоей. Над парковой аллеей летали вороны, в небе, отражённом гладью луж, плескались седобородые голубки... Закат горел размашистым костром. Она зашла в аптеку, где было скучно и где царил тлетворный дух медикаментов, и была рада снова оказаться на улице. Ветер нёс с собою запах речной воды, и мир представлялся ей свежим, необычным, мир будто бы наполнился тайной, и каждая веточка душистых парковых ёлок, каждый камешек, бросавшийся под тонкие подошвы её туфель, тихая медь застывших облаков и лица людей, и весёлый рёв автомобилей были полны красоты и загадки. И она знала, что, если отгадает эту загадку, если придёт к ней внезапное озарение, её жизнь изменится: больше не будет горя, не будет страданий, а окружающий мир навсегда останется для неё таким, как в этот весенний вечер. Она спустилась к реке. Стояла, опёршись о перила и глядя на большое розовое солнце, нависшее над противоположным берегом, глядя на ленты красного света, колеблемые рябью реки. Иногда по воде проносились моторки. Винты взбивали воду, и лодки шли мимо берега, далеко выбрасывая кипящие пеной хвосты. В одной из лодок ехала её семья, и она была вместе с ними. Правил, конечно, брат. Он был весел, смеялся, когда нос несущейся моторки врезался в речную гладь и высоко взмывал над водой, потом поворачивался к ней и лукаво подмигивал. Мать с сестрой сидели позади, а она разместилась рядом с братом и держала его под руку. Мать была одета в белое и сестра сидела в белом халате. Встречный ветер трепал их волосы, и иногда мать приподнималась, придерживая рукой широкополую шляпу, и кричала громко, стараясь победить шум мотора: «Ты, Геленька, прости меня, дуру старую! Совсем из ума выжила на старости лет! Ты меня прости, доченька, прости…» Ветер подхватывал её голос и, мешая с тяжёлым гулом мотора, разносил над рекой. Она отвечала, что всех давно простила и не обижается на них ни капли, ведь они её семья, ведь ты моя мамочка, ты мой братишка, а ты моя любимая младшая сестрёнка… И я люблю вас всех. И ничего мне в жизни не нужно, кроме того, чтобы вы, все вы, были счастливы…
Она вернулась домой, когда стемнело, растворила настежь широкое окно и, раздевшись, легла в кровать. Влажный холодный воздух ворвался в помещение, и в комнате посвежело. Она смотрела в ночное небо, по которому бесконечной погребальной процессией шли чёрные облака, на котором не было звёзд и светила ядовитомаленькая, злобная луна. Из окна падала на пол зыбкая белёсая лужа, и, поднявшись с кровати, она встала в эту лужу и выглянула во двор. Тёмные высокие клёны в саду бросали в небо пучки ветвей, по чернозёму ползали загадочные тени, и мёртвая, густая тишина, казалось, восходила до небес. В соседней комнате спал неспокойно её брат: он часто ворочался во сне и, когда его голова в очередной раз повисала над полом, длинно и тяжело стонал. В другой комнате на тощей, провисшей кровати болезненно сопела и кашляла гортанно её мать; в той же комнате безмятежно спящая сестра вдруг резко вздрагивала во сне всем телом. Пробило полночь, и она, положив под язык несколько таблеток из карего, тугого флакончика, подошла к зеркалу. Она была раздета, и на бледной, остроконечной груди выделялась крупная родинка. Было темно, и мир зазеркалья был тёмен, и она, глядевшая из этого мира большими невесёлыми глазами, была похожа на тень. Она крепко сжимала в руке стеклянный флакончик, будто держалась за него. Было страшно. Долго, непрерывно она смотрела в зеркало, и зеркало начало смотреть на неё. Комната постепенно ширилась, тянулась куда-то, тьма всё более мешалась с лунным светом, по потолку, по стенам поползли смутные тени, они то растекались, то узились, перетекали одна в другую, расходились и снова сближались, преображаясь в жуткие, неясные фигуры; тени сходили со стен и сновали по комнате, бесшумно подкрадывались к ней, ложились на её бёдра, на плечи, щекотали голени, длинными, протяжными саламандрами ползли по спине, по животу, извиваясь, оплетали шею и грудь; и она падала, падала, падала, падала, падала во тьму, когда вдруг почувствовала, что кто-то бережно обнял её за плечи, и увидела в зеркале своего отца. «Ну здравствуй, доча… – сказал он, неприятно оскалясь, и она вздрогнула, ощутив холод его рук. – А где доча? А нету дочи… – сделал большие удивлённые глаза. – А где доча? А нету дочи! – заплакал, уткнувшись в её волосы. – Нету дочи, нету… – поднял голову и лукаво ей подмигнул. – А где доча? Где доча? А доча теперь со мной, да доча? Она теперь со мной… А где доча? А нету дочи…» Флакончик потяжелел, и, казалось, давил на пальцы. Дрожащей рукой она дёрнула тугую пробку и высыпала горсть таблеток на ладонь. «Теперь мы вместе, доча, теперь ты со мной…» – шептал отец, и его лицо углублялось, темнело. Она взглянула на него, решительным движением руки поднесла таблетки ко рту и уже хотела проглотить их, когда почувствовала, что над нею только что пролетел Господь…
Максим БУРДИН
25 августа 2010 года, Кострома
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.