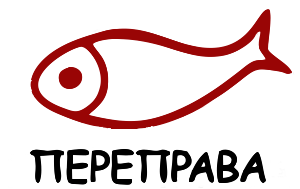I
Ей-Богу, красив был Ольша Годымов, плавным рывком отверзающий низкую дверь горницы – будто пёс холёный, выгибая половицы, входил, в зелёно-золотом сиянии царских перьев, сломив шапку с соболиной оторочкой, упруго крестясь в угол.
- К думному ходил? – выступая на свет кочанными коленями, обозначился брат Еким.
Ольша, отстегнув пару шейных крючков, сел в родительский стул с птицами, двинул к себе чуть смятый со стороны Богородицы малый кубок. На гладкую шею легонько капнуло. Дохнул, утёрши алые губы:
- На Казань шлют.
- К Шуйскому? Ляксан Борисычу? – до конца уточнил, радуясь, Еким. - Скоро?
- По Пасхе.
Гавкнула со двора псина.
- К вечерне сходим?
Глухим проулком, мимо просевшей соседской поленницы, выбрались к слободскому рукаву, и намеревался уже Ольша свернуть к Косьме и Дамиану, где мать с отцом ещё стояли незримо, и тишь, и голуби квохчут, но дёрнул за рукав Еким, и пришлось – к Благовещению, в собор. Коли так жалован, нечего по домовым таиться, все тебя видеть должны. Поклялся старший Еким Ольшу ещё до прошлого Покрова оженить, да тот, мягко будто, но противился. Отговаривался – кровь на мне, но в большую кровь на Ольше Еким не верил – знал братнюю послужную насквозь. Чуть там, чуть сям… а как начнёт круглить белки в пустоту, хоть из дому беги – скучно.
II
У Благовещения кого только нет – кажут и дочерей, и сыновей, и убогих ведут, и входят особо, и выходят – мстится, даже кланяются, озираясь, нет ли знакомых.
Вошли, никуда не глядя, мимо серебра и злата, тоненько звенящего от воздушных колыханий, и подались вперёд, и уже чуть расступались пред ними, прикрывая рты.
Возгласили, и пошло – кого в пот бросает, кто дыхание умеряет. И на колена стань, и подымись, и снова, и теряешь сердце, и обретаешь, и возносишься будто, от пола так и рвёт.
Матушка, батюшка, где вы там? Столько на душе встанет… и то памятно, и это…
Входил причт вратами, выходил, и возжигали, кадили – Ольша не думал, когда шлепок ощутил. Вскинулся – Еким шутит?! – и встретился глазами с юродом. С непривычки похолодел: страшен. Роста дивного, даром что согнут (на плечах – сохлая колода с оборванной цепью), буркалы навыкате гноятся, рот аспидный, вдавлен, и встрёпан по-петушиному, в полголовы чёрная смоль, остатком – снег по святкам.
Перетянул Ольша наперёд полу – тошный ком по ней стекает. Сунулся Ольша к юроду – перехватили, держат. Никто слова, не изрёк, только беспамятно, как вышли.
Вечерня идёт себе, свечи сквозь окна пробиваются, хор поёт, будто и не для них.
- Давай отряхну, - Еким говорит.
Подставил Ольша полу – ком уж почти стёк, след навозный перья замазал, блеск тусклый, застирать бы, отдраить…
- Отлей на руки, - просит Еким слободскую девку, и прямо когтями дерёт. Не вытерпливает Ольша, и снимает кафтан, и сам трёт, аж нить вон. Крепок навоз, въелся.
- Достаивать пойдём? – Еким спрашивает.
- Айда, - говорит Ольша. И входят наново, и стоят, и скоро второй ком в Ольшу летит. Белеет Ольша, и к юроду, и смотрит в него, и ничего, кроме гнева, не видит, а понять, откуда гнев, не может.
- Бил ты его, что ли, - шепчет Еким, за рукав тянет, мол, пошли вон отсюда.
III
Следующим, канунным днём, к заутрене, а Екиму недосуг: обозные челобитие подали на неуправу, это – криков до вечера.
Ольша сомневается, в Собор ли.
Нарочно мимо окон идёт кто-то сведущий, напоказ выкрикивает: слыхано, Годымовых братьев Благовещения юрод пакостью заляпал! Со службы совсем выгнал обоих! Так и пошли, эва! Уж какие ни какие служилые, а Божьего человека не тронь! И – много тише – ответ горластому: и-и-и, сокол, а мы-то – не Божьи разве? Вздох.
У собора будто все иные – как вчерашних сменили.
Некогда: Ольша с поклоном входит, налево прикладывается, на другую сторону переходит. Отворяются врата, певчие возглашают, и замирают мысли, и одно только чувство от человека остаётся – долгое, как половецкая струна, и свербит где-то посередь грудей – Господи, ослобони, сдай вспять, верни во годы младые.
Видятся – потолок набело писаный, павлин медный на шнурке роток бойко открыл, батюшкой тёсаная тележка, на переднее правое колесо хромая, в угол с размаху ткнулась, откуда Лик за Ольшей доглядает, никак не доглядит… Лучи косо в пол упираются, и в них сквозь ресницы крохотные радужки ходят. Лесенка, только его да мамок, мимо вышнего окошка – столько раз хожена, что совсем живая и своя, как рука или нога. А поперёк – лентой будто – стан горит, и ползёт оттуда баба без лица, и воет, и батюшка на столе недобро куда-то мимо него скалится… и новый ком по спине.
Рука к бедру ныряет – опамятовалась, замерла. Запах в ноздри, как сороканога, впился. У юрода в ногах бадья смердящая. Довольно припас на одного. И за плечи держат: нельзя.
Стряхнувши пакость, садится Ольша на зашарканный дворовый настил – впору голову руками обхватить. Слышится – волочат что-то из собора: юрод с бадьёй выползает.
- Что я тебе сделал? – Ольша негромко спрашивает. – Сделал тебе – чего?
- Молчальник он, - какая-то пискнула. – При обете года три уж.
У Екима людно: обозные растеклись – приказные набились, квас расхлебали, на дне мутная жижа стоит. Еким гридню наказывает – гони, брат пришёл, а двое не выходят – ближние, за стол садятся. Подали краюху с ягодами в меду.
- Я хоть сейчас свистну, - тихо Еким говорит, - По слову и делу ко мне сволокут, а завтра отпустим.
Ольша сидит.
- Москва злая, везде судачит. И мне укор…
Молчит Ольша.
- Перед кем ты виновен? В степь трижды ходил. И рублен, и стрелян. А как государь расслышит? Могли же подговорить? И Грязные, и Елчаниновы, и Сартаковы. Долго ли. Ни за что терпишь. Был бы в чём измазан, я бы первый знал. Унять – недолго.
Ольша отворачивается.
***
Вечером пуще: юрод по двору споро наперерез ковыляет. Бадья с ним.
Цап за полу – плечи саженые, пальцы крючковатые, вздутые, чёрные, аж лоснятся. Будто жуёт ими. Встал Ольша, думает кафтан – другой уже – снять да плечи те покрыть. Но не нужен юроду кафтан – из бадьи черпает и лепит, ровно стену обмазывает. Горе.
Ольша полу к себе не тянет. Уже до пояса покрыт, люди мимо идут, какая-то лабазная взвизгивает, да и в зуб ей копыто. Хмурятся посадские – знаком им Ольша.
Наконец, исчерпалась бадья. Даже на плечи по две блямбы возложено. А нос будто притёрся – травку слышит, соломку, одуванчики… Растелешаться надо. Кладёт Ольша кафтан изгаженный рядом с юродом. Криво дышится. Из правого глаза натекает, потом и левый прыскает. Значит, вот чего выслужил – удалью да беспорочием. А этот Божий ждёт, потому и давит, и уж больше и надавить нельзя, а – можно.
Откладывал смотрины – отстань, Еким, сам женись, дай сперва от пожарищ отмолюсь, на большое богомолье съезжу. А тут, вот она, Казань, и незнамо, насколько. Какое теперь богомолье… Шуйский разве пустит?
А и правда – в проталине меж ними зелёное завиднелось. Может, и одуванчик…
Юрод встаёт, легко снимает с плеч колоду свою, выпрямляется и Ольше в глаза глядит, и в глазах его столько ласки, сколь у батюшки с матушкой было. Чёрная лапа морщинистая кладётся Ольше на плечо.
Смотрит на них подбежавший Еким, и ползёт ему на губы улыбка пасхальная.
Сергей Арутюнов
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.