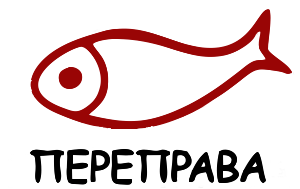Соловьев понимал всю ответственность сказанного в «Трех разговорах». К.В.Мочульский пишет:
«Изобличая Антихриста, срывая с него «маску добра», он знал, что вступает в последний смертельный бой. Величко рассказывает, как однажды Соловьев, прочитавши приятелю свою «Повесть», внезапно его спросил:
– А как Вы думаете, что будет мне за это?
– От кого?
– Да от заинтересованного лица. От самого!
– Ну, это еще не так скоро.
– Скорее, чем Вы думаете!
Через несколько месяцев он умер».
По мнению святых отцов, Господь забирает человека из этого мира на гребне духовной волны. Так было и с Соловьевым. Годы 1898-1900 для Соловьева – совершенно особенные. Он освобождался от балласта, жизненного и философского, который долгое время не давал ему подняться вверх. Истина ему была дороже всего. Поэтому он и смог отказаться от того, чему поклонялся. О преображении Соловьева в это время пишет и Розанов:
«Заметно, как образ его улучшается, очищается после смерти; как и перед самой смертью он быстро становился лучше, как будто именно приуготовлялся к смерти. Разумеем здесь его отречение от горячки неподготовленных попыток к церковному “синтезу” и вообще быструю его национализацию. Внук деда-священника вдруг стал быстро скидывать с себя мантию философа, арлекиаду публициста. “Схиму, скорее схиму!” — как будто только не успел договорить он, по примеру старорусских людей, московских людей.»
Он ушел совсем молодым – что 47 лет для философа? Можно было бы, конечно, по примеру того, как анализировал судьбу Пушкина сам Соловьев, попробовать понять, почему именно тогда Господь забрал его. И действительно, старую свою систему он разрушил – и правильно сделал; но какой была бы его новая система? Да и сумел бы он освободиться от преследующих его софийных искушений? Что бы он сказал по поводу катаклизмов, потрясших Россию вскоре после его смерти (а их он предчувствовал)? Всего этого мы этого не знаем. И потому без лишних фантазий просто примем волю Божию о рабе Божием Владимире. Моцарт от философии взят от мира именно тогда – 31 июля (13 августа) 1900 г, и остается только умокнуть перед тайной смерти.
Соловьев умер по-христиански, смиренно исповедовавшись у сельского православного священника. Отпевали его в университетской церкви св. Татьяны (именно там он впервые увидел Софию). За гробом его шло не очень-то много людей – ближайшие родственники, несколько друзей-философов, да десяток нищих. Он похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря. Как он в жизни был неприкаянным, так и умер в чужом доме (в имении Трубецких Узкое) и лежит под чужим памятником (первоначальный крест был утрачен, и в советское время взяли фрагмент памятника от другой, бесхозной могилы).
В 1929 году – примерно за год до сноса надгробия, – могилу Владимира Соловьёва заснял фотограф-энтузиаст Александр Тимофеевич Лебедев, негатив этой фотографии хранится в коллекции ГНИМА им. А.В. Щусева.
После похорон философ С.Н. Трубецкой сказал: «сегодня мы схоронили самого большого русского человека».
Александр Блок видел Соловьева единственный раз в жизни. Вот как он описывает это событие в статье «Рыцарь-монах»:
«Одно воспоминание для меня неизгладимо. Лет двенадцать назад, в бесцветный петербургский день, я провожал гроб умершей. Передо мной шёл большого роста худой человек в старенькой шубе, с непокрытой головой. Перепархивал редкий снег, но всё было одноцветно и белесовато, как бывает только в Петербурге, а снег можно было видеть только на фоне идущей впереди фигуры; на буром воротнике шубы лежали длинные серо-стальные пряди волос. Фигура казалась силуэтом, до того она была жутко непохожа на окружающее. Рядом со мной генерал сказал соседке: «Знаете, кто эта дубина? Владимир Соловьёв». Действительно, шествие этого человека казалось диким среди кучки обыкновенных людей, трусивших за колесницей. Через несколько минут я поднял глаза, человека уже не было; он исчез как-то незаметно, — и шествие превратилось в обыкновенную похоронную процессию.
Ни до, ни после этого дня я не видал Вл. Соловьёва; но через всё, что я о нём читал и слышал впоследствии, и над всем, что испытал в связи с ним, проходило это странное видение. Во взгляде Соловьева, который он случайно остановил на мне в тот день, была бездонная синева: полная отрешенность и готовность совершить последний шаг; то был уже чистый дух: точно не живой человек, а изображение: очерк, символ, чертеж…В это последнее трехлетие своей земной жизни он, кажется, определенно знал про себя положенные ему сроки; к внешнему обаянию и блеску прибавилось нечто, что его озаряло и стерегло».
Прибавился особый промысел Божий, который вел эту удивительную душу в небесные обители. И кто знает, может быть прав Блок, своей глубокой поэтической интуицией узревший иного, неведомого Соловьева:
«…мы можем видеть встающий из тьмы новый, ничем не заслонённый образ. Здесь бледным светом мерцает панцирь, круг щита и лезвие меча под складками чёрной рясы. Тот же взгляд, углублённый мыслью, твердо устремлённый вперёд. Те же стальные волосы и худоба, которой не может скрыть одежда. Новый образ смутно напоминает тот, живой и блестящий, с которым мы расстались недавно. Здесь те же атрибуты, но всё расположилось иначе; всё преобразилось, стало иным, неподвижным; перед нами уже не здешний Соловьёв. Это — рыцарь-монах».
Розанов, по-своему, без рыцарской атрибутики, но по сути дела вторит Блоку: «Он был очень несчастен, но теперь ему лучше, чем когда-нибудь на земле».
Николай Сомин
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.