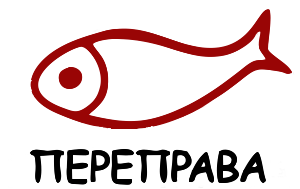Владимир Соловьев. «Три разговора». Саморазоблачение
Мировоззренческое покаяние в «Трех разговорах» выражено у Соловьева тонко, но безжалостно. И что особенно замечательно – в лицах. Многие действующие лица «Трех разговоров», причем отрицательные или сомнительные, высказывают старые соловьевские идеи. Получается, что Соловьев как бы смотрит на себя прежнего со стороны и куражится.
Политик – это Соловьев.
Весь Второй разговор Политик занудно формулирует идеи европеизма, цивилизованности, прогресса. Очень не нравится ему азиатский византинизм. Но Политик в изображении Соловьева – персонаж отрицательный. Этот чиновник высокого ранга совершенно теплохладен к христианству, что для Соловьева, конечно, неприемлемо. И к своему политику у Соловьева весьма и весьма ироническое отношение. И тем не менее, в уста политика он вкладывает не только европейничанье, но и филиппики о византийской азиатчине, близкие к тем, которые еще недавно произносил сам Соловьев. Вся речь Политика – пародия на свою же полемику по поводу Данилевского, и даже на «Оправдание добра». Политик – это автосатира, насмешка над своими же недавними взглядами, вполне в духе Соловьева.
Но Князь – тоже Соловьев.
Казалось бы – почему? Ведь Соловьев всегда относился к толстовству резко отрицательно. Но Князь, как и прошлый Соловьев, свято верит в необоримую силу добра, «мысль о торжестве разума наперекор всему». Князь говорит:
«…потому что в те дикие времена нравственное сознание еще не возвысилось над грубым византийским пониманием христианства и позволяло ради кажущегося добра убивать людей».
Тут же, как видим, и «грубое византийское понимание христианства». Господин Z (теперешний Соловьев) с горечью замечает: «я и сам не сразу разобрал, в чем тут дело».
И антихрист, представьте себе, – тоже Соловьев.
Вот кусочек из «Повести об антихристе»:
«Он был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам широко прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель. Сознавая в самом себе великую силу духа, он был всегда убежденным спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию.».
Чем ни автопортрет? Но антихрист еще – «социальный преобразователь», «филантроп», «филозой». Опять самоирония, апеллирующая к проекту «всемирной теократии». Однако к чести Соловьева следует признать, что он всегда понимал опасность ношения в себе «великой силы духа», и постоянно смирял себя, и образ антихриста – пример такого автосмирения. Соловьев очень боялся стать «русским Ницше», и заранее отрезал для себя этот путь, изобразив себя в антихристе.
Но Аполлоний – опять-таки Соловьев.
Заметим, Аполлоний – «чудодей», «человек несомненно гениальный», «католический епископ частично верующий», «всемирный маг». Как тут не вспомнить юношеское увлечение Соловьевым спиритизмом, магией, каббалой – для изучения этих предметов он и поехал в Лондон в 1874 г. Правда, уже тогда в спиритизме он хорошо разобрался и после никогда его не одобрял.
Вот Дама и Генерал – это вряд ли Соловьев. Скорее это изображение «публики», православных христиан из образованных, с которыми Соловьев постоянно сталкивался в гостях, раутах, собраниях, вечерах и пр. Впрочем, с художественной точки зрения оба персонажа выписаны превосходно. Дама со своей недалеко-наивной экспансивностью просто неподражаема.
Но есть еще несколько героев книги, пародирующих Соловьева. Прежде всего, это «вежливый самоубийца»:
«Г [ - н ] Z. Мой друг N внезапно умер.
Г е н е р а л. Это известный романист?
Г [ - н ] Z. Он самый.
П о л и т и к. Да, об его смерти в газетах писали как-то глухо.
Г [ - н ] Z. То-то и есть, что глухо.
Д а м a. Но почему же вы именно в эту минуту вспомнили? Разве он умер от чьей-нибудь невежливости?
Г [ - н ] Z. Наоборот, от своей собственной чрезмерной вежливости и больше ни от чего.
Г е н е р а л. Вот и по этому пункту единомыслия у нас, как видно, не оказывается.
Д а м a. Расскажите, если можно.
Г [ - н ] Z. Да, тут скрывать нечего. Мой друг, думавший также, что вежливость есть хотя и не единственная добродетель, но во всяком случае первая необходимая ступень общественной нравственности, считал своею обязанностью строжайшим образом исполнять все ее требования. А сюда он относил, между прочим, следующее: читать все получаемые им письма, хотя бы от незнакомых, а также все книги и брошюры, присылаемые ему с требованием рецензий; на каждое письмо отвечать и все требуемые рецензии писать; старательно вообще исполнять все обращенные к нему просьбы и ходатайства, вследствие чего он был весь день в хлопотах по чужим делам, а на свои собственные оставлял только ночи; далее - принимать все приглашения, а также всех посетителей, заставших его дома. Пока мой друг был молод и мог легко переносить крепкие напитки, каторжная жизнь, которую он себе создал вследствие своей вежливости, хотя и удручала его, но не переходила в трагедию: вино веселило его сердце и спасало от отчаяния. Уже готовый взяться за веревку, он брался за бутылку и, потянувши из нее, бодрее тянул и свою цепь, Но здоровья он был слабого и в 45 лет должен был отказаться от крепких напитков. В трезвом состоянии его каторга показалась ему адом, и вот теперь меня извещают, что он покончил с собою».
За исключением самоубийства, это реальный Соловьев. Да, он взял себе за правило отвечать на все письма и писать рецензии на массу журнальных статей. И теперь понятно, почему свои сочинения он писал по ночам. Тут же Соловьев опять-таки иронизирует над собой, смотря на себя как бы со стороны.
Еще один «Соловьев» – камергер Деларю из шуточного стихотворения А.Н. Толстого. Соловьев его полностью публикует в «Трех разговорах», вследствие чего ему даже сначала приписывали авторство. Это как бы «идеал» христианина, бесконечно доброго и непроницаемого для обид. Точнее, был идеал, а сейчас Соловьев видит в такой непробиваемой доброте другую сторону – попустительство злу.
Наконец, старец Варсонофий – тоже Соловьев.
Старец – простец и оригинал:
«Когда мой друг начинал сообщать ему свои нравственные сомнения - прав ли он был в этом, не погрешил ли в том, Варсонофий сейчас прерывал его: "Э-e, насчет грехов своих сокрушаешься - брось, пустое! Вот как я тебе скажу: в день 539 раз греши, да, главное, не кайся, потому согрешить и покаяться - это всякий может, а ты греши постоянно и не кайся никогда; потому ежели грех - зло, то ведь зло помнить - значит быть злопамятным, и этого никто не похвалит. И самое, что ни на есть, худшее злопамятство - свои грехи помнить. Уж лучше ты помни то зло, что тебе другие сделают, - в этом есть польза: вперед таких людей остерегаться будешь, а свое зло - забудь о нем и думать, чтоб вовсе его не было. Грех один только и есть смертный - уныние, потому что из него рождается отчаяние, а отчаяние - это уже, собственно, и не грех, а сама смерть духовная».
Конечно, тут Соловьев слегка иронизирует над «старцами», которые, ничтоже сумняшись, хотят властвовать над душами человеческими. Но причем здесь наш философ? А притом, что сомнительный совет «греши и не кайся» Соловьев долгое время выполнял сам, парадоксальным образом: в церковь он ходил редко, а исповедовался еще реже. Но теперь Соловьев и от этого уходит. Он «кается», хотя и не канонично, но публично – «Тремя разговорами». Кстати, что эта книга есть «покаяние» Соловьева, исследователи его творчества заметили сразу. Об исповедальном характере «Трех разговоров» пишет Е. Трубецкой, Бердяев замечает, что это было «восстание против самого себя». К.В. Мочульский даже замечает, что Соловьеву нужна была «всенародная исповедь», что он в «Трех разговорах» и совершил. И может быть это покаяние – самое сильное, самое безжалостное к себе и самое искреннее.
Николай Сомин
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.