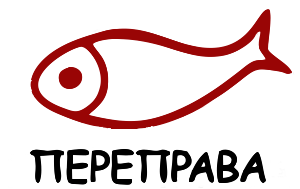Тишина. Памяти святого Земли Русской Сергия Радонежского
Маму положили в середине июня. Внешне всё выглядело буднично: мы с отцом поехали, как обычно, в Хотьково, а мама в больницу на ВДНХ. Ничего серьезного. Утром просыпались рано, шли на автобус до Тешилово, садились на плотине и почти до вечера ловили карасей, на обратном пути заходили в сельпо, отоваривались хлебом, помидорами и огурцами. Питались просто: салат, жареные в сметане караси. Хватало. Маму навещали каждые два-три дня, держалась она бодро, правда, с отцом иногда шепталась, пока я бродил по холлу. Ощущения беды не приходило. Цвела за окном жара, тихо катились дни. Операцию назначили на начало июля.
***
За день Мишка с Пашкой, соседи-ровесники, жившие в том же доме, что и мы, у своих родных бабушек, позвали меня на песчаный карьер, глубокую круглую яму, заполненную почти прозрачной водой. Местные вполне иронически называли ее Ялтой. Отец отпустил меня запросто.
***
Отправились не раньше десяти. Уже чуть припекало. На обочинах стрекотало воинство кузнечиков, редко проносились мимо груженые песком и зерном самосвалы, легковушки дачников… Я не любил нового, силикатного Хотькова: слишком ощущался в нем временный дух поселенцев – рабочих-лимитчиков, осевших тут случайно, словно бы в общежитии. Изукрасившие их кирпичные жилища легкомысленные узорчики в виде ломаных линий словно бы говорили – придет время, снесут и нас, а пока живите, как можете. …Улицы через две-три мы вынеслись на простор, оставили по правую руку поворот на Абрамцево, миновали Репихово, и очутились на прямом, выжженном солнцем шоссе.
***
Затянули бесконечную песню поля. Овсы были в том году жестки, и выглядели почти чахлыми, пшеница тоже ничем, кроме васильков, взора не радовала. Небо было желтоватым, словно усталым, очертания облаков были смазаны, как черты огрузневшего, спящего лица. Велосипеды заскрипели натужно, страдальчески, будто проворачивая во втулках песок, перемешанный со смазкой. Слева стеной стоял лес – еловый, насупленный. Спину начало подпаливать. Я начал отставать, но сдаваться не хотел – нажимал на педали, привставая над седлом «Перми», сжимал рукоятки руля, и налегал, налегал, что есть силы. Наконец, начался спуск. Мы пролетели под эстакадой, на которой разгульно грохотал трактор с прицепом, и не сдерживая разгона, затрепетали на дорожном полотне от восторга, оборачиваясь друг к другу с улыбками. Словно гонщики! Каскадёры!
***
- Что это? - крикнул я Мишке. Плотный воздух относил слова.
Слева перед лесом виднелась насыпь, метра три высотой. Я притормозил: снова начался подъём, и все мы спешились. Через небольшую опушку было видно, что насыпь искусственная, но производила она впечатление не технической какой-нибудь канавы под кабель, заросшей за ненадобностью, а чего-то совершенно другого.
- Это Радонеж, - сказал Пашка. – Деревня.
- Как деревня? – спросил я. – Там что, дома в лесу?
- Раньше были. Давно.
- Когда давно?
- Еще татары были. - ответил Пашка. Веснушки выступили на его вспотевшем носу сосредоточенно коричневыми, будто следы дробинок. Откуда он знает про татар? Нам с ним было по одиннадцать лет, Мишке девять. Я был городской начитанный мальчик, а он едва-едва троечник из подмосковного совхоза. Правда, мать его и Мишки, еще молодая, истомленная пьянством мужа женщина с круглым лицом в туманных очках, работала библиотекаршей…
- Монголы, что ли? - Сам ты монголы. Татары, понял?
Я снова посмотрел на вал. Вернее, не мог оторваться от него. Он напоминал травяное цунами, посланное лесом на поля и замершее до срока. Казалось, двинься ои вперед, и мы ничего не сможем сделать: вставшая на дыбы земля мягко подомнет нас вместе с велосипедами, раздастся хруст, сдавленный вскрик… а она прокатится за горизонт и утонет в бесконечной дали полей, синеве дальних лесов. И никто не узнает: на пыльной дороге мы были всего втроем.
***
Я ощутил в ушах такую звенящую тишину, какой не слышал ни разу. Она поглощала всего меня, делала ватными руки. Некстати вспомнилось, что несколько дней назад мы повздорили с Мишкой – я не сдержал слова в какой-то игре, и Мишка сказал – если не сделаешь, как обещал, мать твоя умрет, и я бросился по улице вдоль под Пашкино Мишке «Ты что, дурак, что ли?!», и остановить меня они смогли лишь после железного моста через Ворю.
***
Это была исконная, жившая здесь от века тишина. Она не пугала: ей было незачем пугать нас. Она брала своё без единого слова, наваливалась и лишала всего, что было в нас своего. Немногого, но основного. Мы тонули в ней, как в болоте. Ни скрип седла, ни рев мотора не мог нарушить ее. Они – и мы – были в ней всего-навсего незаметными частицами, вроде песка во втулках, не могущими пробудить ее от вековечного сна, заставить шелестеть бесчисленные сцепленные меж собой еловые лапы.
Ни кукушка, ни дятел не могли сдвинуть ее, поколебать.
Мы стояли словно бы на вершине камня, который мог со зловещим шорохом разверзнуться под нами и поглотить.
***
…Пашка очнулся первым. Схватив руль, он резко вскочил в седло и помчался вперед. Рубашку его задрало пузырем, голова почти исчезла за ним, как мачта за вздувшимся парусом. Мишка и я на рысях принялись его догонять. Почти в панике ворвались в сельцо с большой белой церковью и запетляли по единственной улочке. Укрылись в единственном магазине, опознаваемом по надписи «Продукты». Надпись лгала.
***
Лучшего нельзя было и пожелать: в том 1983-ем во всех торговых точках великой страны шелестели витрины-холодильники, пропахшие рыбой, в которых по-деревенски крупно нарезанные, морозились куски масла и вились неведомо как попавшие туда мухи. Они роились и над вощанкой с сахаром с приданным ей лунообразной формы среза совком, и над лежалым простеньким печеньем, и около слипшейся в не раздираемую массу карамели. Пирамиды консервов вносили в продовольственный пейзаж весомую металлическую основательность. Но если бы это было весь ассортимент! Сельская торговля колониальна в единственном смысле: ей некогда специализироваться. На пространстве величиной с московскую кухню было негде повернуться. С гардеробного стеллажа свисали новенькие синие ватники. Под ними, подобные сторожевым псам, громоздились резиновые сапоги, угрюмо обвивали длинный ржавый гвоздь пастушьи кнуты, лоснились грозно вздыбленные косы-литовки, гримасничали, словно удивляющиеся тебе ярмарочные паяцы, туго свёрнутые хомуты и еще какие-то конские ремни с массивными бубенцами, отчаянно роняли тяжелые головы грубо тесаные топоры. При желании и соответствующих средствах отсюда было можно выйти навек счастливым – экипированным по самой надежной русской моде, с шестью, например, или восемью кусками хозяйственного мыла, горстью скоб, мотком бечевки, а то и буксировочного троса. Продавщица, видимо, замешкалась где-то на задах. Шелестели холодильники. Мы стояли, пережидая тревогу. Пашка нацелился на какую-то чёрствую булку за десять копеек, они быстро пересчитали нашу наличность, состоявшую из «десюнчиков» и пятачков, сноровисто взяли отказавшемуся от булки мне полулитровую газировку и вышли открывать ее об водяную колонку. А я засмотрелся на предел своих тогдашних мечтаний – рыбацкие бахилы. Шестнадцать рублей! Таких денег у меня не могло быть никогда.
***
Из света вошел кто-то, на миг заслонив его. Я не оборачивался. Смотрел на эти резиновые ботфорты, воображая себя в штормовке и зюйдвестке на кренящейся палубе. И чтоб обязательно фотографии – я, мокрый мостик, девятый вал и мои руки – громадные красные кулаки, впившиеся в железо, и чтобы случайно вывалились из внутреннего кармана школьной куртки на перемене и рассыпались веером, и чтобы… Человек стоял за спиной. Я с сожалением перевел взгляд на соседнюю витрину с удочками и грузилами и вдруг обомлел: вошедший был… остроголов. Пришлось даже отпрянуть и не совсем ловко не то чтобы спрятаться за ватниками, а стоять вполоборота, полувыглядывая из-за них, словно притаившись. Меня охватил страх. Кричать Пашку и Мишку было глупо. Хоть бы доели уже и вернулись за мной, панически промелькнуло где-то по поверхности меня. На голове человека был капюшон - чёрный, изукрашенный примитивно изображенными белыми черепами, скелетами и старой вязью. Лица его не было видно.
«Ку-клукс-клановец?! - подумалось нечетко. – Фашист? Мертвец?!»
Рукава вошедшего были широки, кисти рук почти не выглядывали из них, но было видно, что он опирается на прилавок и терпеливо ждет. Тучен он не был – скорее, подтянут, обут в кирзовые, ладно обсевшие ступню бывалые сапоги, высовывающиеся из-под чудного, будто маскарадного, но всё равно пугающего балахона. Стоял он как-то весело, пружинисто. И вдруг замер, точно почуяв меня. И обернулся.
***
Я ожидал увидеть на месте его лица провал, тот же самый заявленный череп, а увидел – синеглазую физиономию с яркими желтыми космами и рыжеватой бородкой. Лет ему было, может, за тридцать: я тогда плохо разбирался в возрастах – кроме родителей, всех постарше считал стариками и старухами. Мальчишкой он не был, но можно было понять, как он выглядел именно мальчишкой. Черты его были забияшистые, но именно такие, которых почему-то не боишься. Даже в нашем городском дворе были такие, что первыми лезли в драку, а потом первыми же плакали.
***
- Устал? – спросил он меня.
- Не-а, - соврал я.
- На Ялту?
Я кивнул.
- Хорошее дело. – засмеялся он. – Жарища… Сам бы сейчас, да вот… - он обвел свое одеяние, и я понял, что он хотел сказать – в таком не купаются. И мне всё стало с ним ясно.
Конечно, я понятия не имел ни о схиме, ни о разделении священников на белых и черных, но он так понятно сказал про купание, что я понял: он уже не из нас. Как если бы вырос навсегда.
Общие темы кончились. Я подумал, что сейчас он отвернется, купит, что ему нужно, и растворится в свете, откуда пришел, а я поеду дальше, купаться. Но он вдруг улыбнулся мне жалостливо, чуть сморщившись, словно женщина, и, спустив с лица улыбку, серьезно, как старший брат, пришедший из армии, спросил:
-По матери очень скучаешь? Во мне задохнулось всё. Всем своим существом я ощутил, что немыслимо, неимоверно, как никогда! – скучаю по матери. Что все эти дни, которые я заполняются рыбалками с папой, купаниями и деланьем вида, что я не скучаю, - все они ложь, самообман, которым я сам застилаю себе глаза чтобы не плакать по маме целыми днями!
***
- Если что, как думаешь, сдюжишь? – спросил он меня снова.
И лишь в этот миг мне стало окончательно ясно, как только может быть кому-нибудь что-нибудь ясно про другого, что он, этот человек, знает обо мне всё. От кого, не имело значения. Он всё знал, и потому говорил со мной. Глаза его медленно шли по самой середине моей души, не выжигая её, но проясняя то, что теснилось в ней, может быть, слезами, или отчаянными, слепыми ударами голых кулаков по стене.
- Нет! Нет! Не хочу так! – сдавленно, но чувствуя, что рвется наружу, закричал я, подавшись к нему.
Правой рукой с неожиданно железными пальцами он взял меня за слабое плечо, левую положил мне на голову, ладонью на лоб. Ладонь была прохладна.
- Ладно, твоё слово. Уладится, – сказал он. – Завтра же езжай к матери, слышишь?
Я кивнул, и его не стало.
Пашка застал меня плачущим в синие ватники. Слезы текли и текли из меня. Заскрежетали со двора поддоны – начинался прием товара. Еще плачущим я вскочил в седло. Вода Ялты оказалась прохладной, но передо мной даже выжимающим плавки стоял и стоял тот человек.
***
Отцу я ничего рассказывать не стал.
Мать спасли.
Сергей Арутюнов
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.