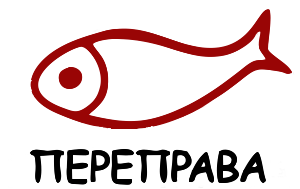Как бы она удивлялась: о ней – и вдруг очерк. Чем заслужила?
Хотя бы тем, что отец звал ее святой, а я до сих пор ощущаю ее живой и – молящейся за всех нас там, откуда нет возврата.
Если кто-то и молится за нас, то она.
Разве этого – мало?
***
…Она и сама не помнила, когда родилась. На Руси такое «беспамятство» бытовало через раз. Церковные книги записей порой непостижимо завирались, временами немилосердно жглись и терялись. Что говорить о людях, что сами вносили в записи о себе такие исправления, после которых самый въедливый кадровик не мог бы их попрекнуть ни «поповским происхождением», ни «нахождением в оккупации», ни родней за границами единого и неделимого Союза ССР…
Кто она была? Среднего роста, круглолицая, голубоглазая, с носом пуговкой, работящая девочка из многодетной крестьянской семьи Бояркиных, отданная на работы и в обучение в Успенский женский монастырь в Нижнем Ломове Пензенской губернии.
История его уникальна: в 1847 году – женская богадельня, в 1849 – община, в 1880 – монастырь, и весьма крупный: к 1907 году в монастыре жило 39 монахинь, 23 послушницы, 230 на испытании, 13 на призрении, 10 из которых обучались в училище.
Сохранившиеся до нашего времени кирпичные корпуса Нижне-Ломовского Успенского женского монастыря. Фото начала 2000-х гг.
Что ожидало Верочку? Годам к тридцати приняла бы постриг или была бы выдана замуж. Может быть, стала бы матушкой где-нибудь при маленьком сельском храме, а может, достался бы ей близкий к монастырскому хозяйству надежный однодворец, коли и выпивающий, то по большим праздникам… Кто знает, как сложилась бы судьба, но уже не было ей хода: ржавые рули русской истории скрипели, близился поворот.
***
От Первой Мировой монастырю и Верочке лично достался пленный австриец. Юношу пригнали на работы году в 1916-м. Каким он был, как его звали? Верочка никогда не рассказывала. Влюбилась.
Пленный почувствовал её не сразу. Сначала угрюмо налегал на лопату, но в перекурах уже громко, осваиваясь, шутил, пел, молодецки, с коленцами, танцевал. Из-под платка на него бесконечно смотрели голубые глаза.
Сближение было долгим. Его шутка – ее смущенный звонкий смех, окрик настоятельницы.
В один из летних вечеров они как-то сами собой встали вдвоем за дровяным сараем. Слов почти не было, сплошные паузы, но он всё понял безошибочным человеческим чутьём, что простирается поверх языков. Оба в ту ночь не спали – на одном подворье, но в разных кроватях. Верочка разметалась, да и парень казался на утреннем разводе помятым, будто пережили они порознь ночь великую, брачную, единственную.
Верочка бегать к нему не стала: не могла. Серьёз ее был таким, что пленный понял – ему вручена судьба. И он, воспитанный по-крестьянски строго, предложил ей ехать с ним после освобождения.
Вот они, судьбы: В середине лета 1918 года, когда началась реэвакуация пленных солдат австро-венгерской армии, их насчитывалось в Пензенской губернии не менее 11 тысяч человек, в январе 1919 года – 456, пишут исторические статистики.
Гонят партию. Австрийские пленные в глубоком русском тылу.
Солдат звал ее с собой. Обещал согласие родителей, беспрекословное смирение их с ее православием, минимальное благосостояние на собственном наделе или в мелкой торговой лавчонке. Судьба, казалось, разостлалась перед ней новой, неоткрытой, неиспробованной.
Минула ночь, другая, прошла неделя… Тянуть дальше не было смысла. Разговор назревал.
И Верочка отказалась. Измученная, бескровными губами она едва сумела прошептать парню в поношенном блёкло-синеватом мундире, что не поедет. Чуть не упала: качнулась. Еще не веря услышанному отказу, он обхватил ее, побледневшую, как смерть, и понял: решено окончательно. Схватил и держал, целовал в крепкие щеки. Верочка уворачивалась, и получалось – в лоб, в платок, туго, жгутом стягивавший пышные русые волосы.
Она была безмолвна, почти бездыханна. В ней уже разорвалось на мелкие части собственническое женское сердце: любила больше жизни, и потому не могла уцелеть. Но среди сплошной кровоточащей раны тихо начинал накрапывать иной ритм – сестры милосердия…
Отстранила сама: сбросила подрагивавшие руки с талии и, резко развернувшись, ушла в работную келью.
До самого угона на родину он видел ее ходящей по двору. Больше в глаза ему она не смотрела, тихо здоровалась и шла дальше.
Настал день. Пленных построили. Ворота монастыря широко открылись, партию повели. Поднялась пыль. Верочка стояла во дворе и смотрела им вслед.
***
Сердце ее еще раз – последний – разорвалось, когда колонну скрыли облака пыли.
***
Через несколько дней в монастырский двор въехало несколько телег, сопровождаемых конными в суконных шлемах шишаками и кожаных фуражках со звездочками. Погрома не было: никто не жег построек, не насиловал монашек. Несколько спешившихся в кожанах и зеленых кителях прошли в келью игуменьи и скоро вышли. Один с крыльца махнул кривоногому расторопному солдатику. Тот осклабился, деловито соскочил и начал распоряжаться. Из подвалов потащили мешки.
Когда послышались глухие удары в храмах, монахини бросились на выручку, но их отогнали. Игуменья вышла во двор и громким срывающимся голосом приказала отойти, не мешать.
Вечером вызвала послушниц к себе в келью.
- Нет больше нашего монастыря, девоньки, - сказал она. – Идите в мир, тут вас ненароком зашибить могут. Я останусь пока: за обитель нашу до последнего стоять должна, на то и поставлена тут. Антихрист побалует-побалует, да уйдет, а вам жить. Вещи ваши я велела собрать, на первое время от себя кое-что присовокупила. Далёко от монастыря не ходите, на дорогах неспокойно, будьте рядом, каких-никаких фатер и работёнок я вам, авось, подыщу, шить-стирать-гладить вы и с малолетства могли, готовите чисто, ремеслам обучены. Работницы в дома всегда надобятся. Которые замуж выйдут – не осужу, Бога забывать – запрещаю. Молитесь каждый день, на Господа нашего уповайте. Нет вам иной защиты, кроме Него. Господь вас не оставит. Даст Бог день – даст и пищу, - сказала игуменья.
Девочки заплакали. С подвывом, безнадежно, уныло.
- Простите меня, Христа ради. Не моя тут воля, - скривилась и махнула рукой, отворачиваясь, игуменья. – На все воля Божья!
***
На первых порах повезло: семья моего деда, инженера-строителя Николая Троицкого взяла Верочку в нянечки. Две дочки – Римма и Галина – были ее попечением пробуждаемы, мыты, одеваемы, кормлены, выгуливаемы под присмотром и укладываемы спать. Колыбельные Верочка пела по обычаю – расчесывая гребнем распущенные косы.
Чувство сестер к Верочке было неописуемое – родство до самого сокровенного корня, согласие и лад от самых первых до самых последних слов. Когда Верочке надо было отойти на рынок, Галина принималась реветь, и Верочка высовывалась из-за угла дома, освещая проулок широчайшей улыбкой: все хорошо, здесь я.
***
Деда Николая Верочка сначала боялась до обморока. Потом безмерно уважала за то, что дед всего добился сам.
Тем не менее, преступление против его новой, коммунистической веры она задумала и осуществила недрогнувшей рукой. Убеждение, что русских детей надо непременно крестить, жило в ней превыше страха перед членом ВКП (б) Троицким и его неизбежным гневом. Как-то днем, когда дед по своему обыкновению был на объектах, она отвела девочек в уцелевшую церковь и окрестила. Ей нужно было молиться за всех, иначе она не могла, не умела и не хотела.
***
К войне пришлось расстаться: после долгих странствий по берегам Волги (дед после поволжского голода спешно, по заданию партии, строил на правом берегу элеваторы) Наркомат перебросил семью в Бокситогорск.
Накануне отъезда Верочка вошла к деду.
- Николай Дмитрич…
- Чего тебе, Вера? Здравствуй. С вещами как, уложены? - бормотал дед, не отрываясь от смет и чертежей, заваливших стол.
- Уложены вещи. Николай Дмитрич, а я-то чего поеду? Выросли девочки-то. С нянькой им больше нельзя, засмеют.
Дед оторвался от бумаг и внимательно посмотрел на Верочку.
- Плохо тебе с нами?
- Ни Боже мой. Хорошо.
- А что ты так?
- Девочки выросли… - прошептала Верочка. Две хрустальных бусины выкатились из ее синих глаз. – Если что по хозяйству, то я готова, да надо ли вам? Там себе найдете кого, чего меня-то с Волги везти. Там, небось, и без меня люди найдутся. А тут мне до монастыря доехать отовсюду можно… оттуда и в три дня не доскачешь.
- Да что тебе монастырь?! Где Бог твой? – воскликнул дед.
- Николай Дмитрич…
Дед понял.
***
Война грянула в воскресенье. Над единственным высоким – двухэтажным – Бокситогорска замелькали «мессеры», послышались взрывы. Дед вызвонил Москву, добился выделения эшелона и вывез весь завод с людьми и оборудованием в Сибирь, на станцию Базаиха около Красноярска.
В Сибирь. Эвакуация промышленной собственности европейской части СССР на Восток. 1941 год.
После войны дедов знакомый, приехавший из Москвы в Красноярск, показывал фотографии своего семейства.
- А это кто? – ткнул дед в фигуру рядом с детьми.
- Кто, это? Няня наша, Верочка.
- Бояркина? – просветлел дед.
- Бояркина, - ответил знакомый, еще не понимая, какие пути тут сошлись.
***
В 1946-м мама приехала поступать в Московский институт декоративного и прикладного искусства. Трофейный «дуглас» домчал ее до столицы почти за сутки. На полосу аэродрома Римма Троицкая вышла покачиваясь: мутило от встреченных воздушных ям, бесконечного перелета.
Тетка на полосе спросила – откуда, девонька? Из Сибири, из Красноярска, ответила мама.
- Надо же, и там такие же люди живут, - удивилась тетка.
Мама не стала заходить к родне, она сразу поехала к Верочке - в полуподвал сталинского дома в Гавриковом переулке. Спустившись по ступенькам, с трудом нашла среди бесчисленных дверей и перегородок – жило в полуподвале 16 семей – верочкину каморку. Ворвалась, вскрикнула, обняла…
- Будем жить, Риммуша, - сказала растроганная Верочка. – Бог поможет.
К тому времени карьера Верочки «пошла в гору»: она заняла должность младшего дворника, а значит, располагала она теперь и московской пропиской, и официально закрепленной за ней в домовом комитете комнатой общей площадью около семи квадратных метров. В нее влезала кровать, сундук и столик. В красном углу светилась негасимая лампада, подсвечивающая потемневший лик Спасителя.
Мама поступила в педагогический.
Гавриков переулок. Фото Андрея Зилова.
…Мылись на общей кухне, в тазу, запирая дверь на хлипкую щеколду. Однажды кто-то забыл выключить газ, и мама грохнулась в обморок. Хорошо, что услышали, ворвались и открыли окна настежь. С тех пор мама смертельно боялась не выключенного газа и каждый вечер проверяла конфорки.
А что же Верочка?
Тридцать лет без перерыва, каждый божий день без выходных она вставала в пять утра. Богом ее был Иисус, но наместником его на земле – старший дворник. Это был идол строгий, каравший за малейшую оплошность.
Часов в восемь, распаренная, Верочка входила в комнатушку и принималась умываться. После негромко и ладно, как восьмилетняя, молилась. Перед уходом мамы в институт пили чай, чаще морковный, то с бубликом на двоих, то пустой.
Из Елисеевского, кажется, мама принесла шоколадную медаль, обернутую золотой фольгой, с мелко оттиснутым рисунком медведя в окружении медвежат.
- Римуш, это кто тут? – спрашивала Верочка.
- Это, Веруш, Сталин, - степенно отвечала мама, давясь от внутреннего смеха.
- И прааа, - расплывалась в улыбке Верочка. – Красииивый какой!
Мама взрывалась хохотом. Да Верочка, кажется, и догадывалась, почему, с самого начала.
Стипендия и зарплата дворника обильному питанию не способствовали. Изредка из Красноярска дед присылал шматок сала, иногда в пиковые моменты переводил рублей по сто старыми деньгами…
Тянулись осени, завывали зимы, крапали капелями вёсны. Наступал Великий Пост.
Исхитрившись, мама пекла крохотные пирожочки с начинкой то из лука, то из гречневой крупы. Запах стоял невероятный.
- Римуш…
- Что, Верочка?
- Угостила б? – спрашивала сидящая на сундуке Верочка. Кровать свою, прекрасную, с крупными тусклыми шарами, она ультимативно отдала маме.
- Так ведь пост у тебя? – улыбалась мама.
- Есть грех, Господь простит.
- Так бери, - протягивала мама.
- Нет, ты сама мне дай!
- На, бери.
- Ой, хорошо-то как… - отвечала, жуя, совершенно довольная Верочка. – Благодать Господня. Римуш, но ведь это ты меня соблазнила?
- Получается, я.
- Ну а раз так, то Господь простит, - энергично, потянувшись за остатним, вторым пирожком, заканчивала разговор Верочка. Их и было-то всего шесть-семь, не больше.
***
Подходила Пасха.
Трое-четверо воцерковленных Гаврикова переулка – только женщины – брали такси и ехали ко всенощной молитве в Елоховском соборе, который тогда исполнял обязанности кафедрального. Возвращались также на такси, совершенно благостными, умиротворенными.
Мама просыпалась и видела: Верочка пьет чай, улыбка бродит по лицу, глаза устремлены куда-то за тюремное, забранное двойным стеклом окошко… Пар срывается с блюдца, горит лампада, Спаситель смотрит милостиво. Еще полчасика блаженства, и пора на участок.
***
Под вечер, пьяноватые, с гармошкой, врываются крёстные – два нижнеломовских родом фабричных.
- Здрааавствуйте! – расплывается в улыбке Верочка. А они уж располагаются на ночлег! При девушке! Стыда нет! Стоит им отвернуться, Верочка тычет в них пальцем и вполголоса приговаривает «Окаянные!»
Мама хохочет.
Крёстные ложатся на полу между кроватью сундуком и мгновенно засыпают. Мама, чувствуя, как скапливается в каморке густой перегар, поливает их украдкой одеколоном…
***
Мама прожила в полуподвале все пять лет учебы. Пошла работать, получила комнату в коммуналке на Арбате.
К Верочке ездила каждую неделю.
***
В 1972 году на свет появился я. Так Верочка стала няней во второй раз – уже моей.
Я не могу помнить ее – глаза еще не видели, только чувствовать – она.
Когда приехала в первый раз, я почему-то разволновался и плакал за стеной.
-Там он? – спросила Верочка, указывая на дверь.
- Там. Расплакался что-то, - извиняясь, говорила мать.
- Глянуть-то можно?
Вошла – и мгновенно стало тихо. Мама рассказывала – тут же уснул.
***
Думала ли она о себе, о судьбе своей, начавшейся так обычно и заканчивавшейся так же обычно, с поправками на дикие причуды времени?
***
К концу долгой жизни Верочка ослепла. Пенсию получала. Конец чувствовала.
Мама заезжала так часто, как могла. Видела дальнюю родню, нацелившуюся на имущество.
Последние слова Верочки были – «Сережке. Подушку. Непременно ему чтобы».
Речь шла о волшебной подушке, набитой гагачьим пухом, единственной фамильной верочкиной драгоценности. Подушка, конечно, мне не досталась: всё прибрала верочкина дальняя родня, а мама припираться ни с кем не стала.
***
Что же такое абсолютная жизнь? Абсолютная любовь.
Мне повезло знать и чувствовать это в самом начале.
Проходит ли бытие наше бесследно?
Нет.
Ничто не проходит.
Пока помним, любим, пока любим, имеем жизнь вечную.
Всё дается нам так и таким, чтобы мы смогли ощутить его как дар.
Каждый день, каждую ночь, каждую удачу и каждую потерю свою.
Навсегда.
…Свет мой, Верочка.
Сергей Арутюнов
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.