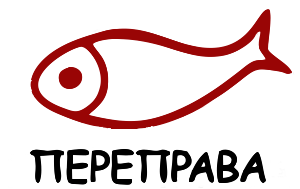Памятно: через несколько недель после американской оккупации Ирака – возглас одной конченой либералки: Ура! Стэйтсы начали крутить иракцам порнуху! Свобода!
Как много это объясняет в психологии, если угодно – в физиологии либерализма. «Растлить» и «освободить» – одно и то же, и при этом куда важнее первое. Подмена понятий абсолютная и окончательная. Её теперь не принято даже стесняться.
…Задолго до первых советско-американских телемостов конца 1980-х мы жили в пуританской стране под названием Союз Советских Социалистических Республик, презиравшей секс и воспевавшей любовь так же яростно, как сегодняшние адепты «свободной любви», вертя неизвестно откуда взявшейся медицинской статистикой, пытаются презирать половую ограниченность «совков» и воспевающие содомитов.
Поздний ребёнок «детей войны», я не помню от родителей ни единого разговора на легкомысленную тему. Ни одной сальной ухмылки. Тема игнорировалась безоговорочно.
Лет в 10, помню, я преследовал их извечным вопросом, как рождается ребёнок, но за два-три года подробного и вразумительного ответа так не получил.
Ущемлялись ли таким образом мои права на получение информации? Да ничего подобного.
В 11-12 мы, мальчики 1972 года рождения, знали уже достаточно много. Про то, как ЭТО бывает у юношей и девушек, нам, ещё несмышлёнышам, рассказала старшая девочка Л., свалившая позже в Израиль. Тогда я ей просто не поверил, да и тема, надо сказать, мало интересовала. Запомнилось выражение её лица: из-под очков блистали какие-то змеиные глаза, рот был влажен. Она ли, её душа – достоверно знала, что именно сейчас, в эту секунду растлевает нас, и сам этот процесс, очевидно, наше недоумение и даже испуг перед тем, что она нам несла, приносили ей острое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Не увидев на наших лицах вожделения, она оставила нас негодующе…
В доме нашем, кроме репродукций французской живописи XVII-XVIII столетия, изображений обнажённой женской натуры, не содержалось. Сколько помнится, я понимал, что женское тело прекрасно. Это мне объяснила мама, увлекавшаяся живописью. Её рассказы меня несколько смущали, но внутренне я ощущал, что она права. Из них я вынес, что красота нефункциональна. Суть импрессии состоит в том, что идеальная функциональная пригодность красоты лишь угадывается интуицией, и не больше. Длинные стройные ноги, как и гордая посадка головы, - всего лишь знаки породы. Кстати, причинные места у галантной натуры изящно драпировались парящими в воздухе и словно бы взявшимися ниоткуда ленточками. Именно поэтому даже какой-нибудь триумф Венеры не выглядел разгулом плоти, несмотря на обилие мужчин, трубящих в раковины, и пухлых младенцев-лучников, осаждавших небо, как фашистские «мессершмиты».
Лёгкой поступью подступало к нам время, относившее ленточки в сторону. Чувствуя его, мать подарила мне книжечку со скромным и достойным моей великой страны названием «Мальчику-подростку». В ней объяснялось, что обращать повышенное внимание на некоторые изменения своего организма не следует, хотя они, конечно, не могут в подростковый период не волновать, не смущать и даже не пугать. Надо следить за собой, заниматься спортом, учить уроки и поменьше бывать одному, предаваясь мечтам, писал советский детский психолог.
Ходя в школу, мы делились друг с другом тайнами взросления, и, если хвалились, то не первенством созревания, а знанием о том, что происходит.
Чувственность наша пробуждалась сама по себе, не раскрываемая никем насильно.
В 11-12 у нас начались «огоньки» – танцы под Тото Кутуньо и группу «Спэйс», сопровождаемые присмотром классной руководительницы и членов родительского комитета. Дебелые мамаши наивно забывали, что речь идёт о детях, и потому сплетничали о нас, как о взрослых. Мать той, в которую я был «втюрен», не на шутку боялась, «как бы ничего не вышло». Она явно преувеличивала мои возможности, не беря в расчёт мой трепет – всю неистощимую силу моей боязни.
Мы были детьми.
Кто-то ещё читал приключенческие романы, а кто-то уже прорывался на сеансы «детям до 16-ти» и пытался цинично пошучивать над одноклассницами, словно видя их насквозь. Этих парней мы почему-то не уважали. Может быть, лихости и резкости их кто-то и завидовал, но куда почётнее было другое: влюбиться и тянуть лямку круглосуточно доступности для насмешек.
Чувство зарождалось внезапно, и было прекрасно именно этим – ослеплением, ярчайшим светом, вспыхивающим среди обычных будней.
Оно могло явиться прямо в классе, на перемене, в группе продлённого дня, на прогулке, экскурсии, по дороге в школу или из школы.
Оно появлялось само, и блаженство его заключалось в том, что никто не предварял его подготовительными разговорами. Тррям! - и вот уже ты носишь великую, непочатую тайну в себе. Ты бессилен изменить хоть что-нибудь. Ты только смотришь, веришь и ждёшь.
Ты счастлив: у тебя теперь, как у всякого взрослого, есть Она.
Ты собственник. Ты ревниво следишь за тем, чтобы Она соответствовала всей мере своих совершенств и обнаруживала всё новые и новые. Её грязная обувь, растрёпанные косы – камень, брошенный лично тебе в спину. Её двойка – твоя двойка, и т.д., до полного помешательства.
И вот ты окончательно безумен.
Ты сошёл с ума.
Ты – хочешь донести Её портфель до подъезда.
Это специальная операция.
Ты готовишься к ней и откладываешь её со дня на день. Наконец, с самый неподходящий день, когда народу вокруг полным-полно, ты летишь в раздевалку, не чуя ног, задыхаясь, одеваешься, обуваешься и вылетаешь на снег – ЖДАТЬ.
Горло сухо, руки холодны.
Она выходит. Прощается с подругами, утыкается взглядом в тебя. Надо просто и изящно. Надо спокойно. Ты протягиваешь руку. Она смотрит, одновременно догадываясь и пугаясь того, что сейчас произойдёт. Подруги оборачиваются. Сейчас. Да.
Ты чувствуешь холод её рук холодом своих.
Тебе не нужна её рука. Тебе нужна – ручка её портфеля. Навсегда. Навечно.
Отдаст или вырвется?
И вот между вами её портфель. Ремень натягивается, ты рвёшь на себя. Проклятая металлическая скоба рвёт жалкий кожзаменитель, и ты падаешь в сугроб под общий позорный хохот.
Всё ещё можно обратить в шутку!
Нет, не так.
Она отдаёт тебе сумку.
И всё.
ОНА ТВОЯ.
В смысле, плевать на сумку. Эта девочка отдала тебе сумку и тем сказала, что она, эта девочка, - ТВОЯ. Что тут непонятного?
И вы идёте в бесконечный свет.
А ваши имена уже пишут на заборах, соединяемые плюсом, проставляя равенство не «любовью», а знаком вопроса, как бы спрашивая ещё и у вас – уверены ли вы в том, что с вами случилось?
Вы идёте со двора вместе.
Листья осени под ногами.
Сугробы.
Мартовская слякоть.
Майская пыль.
Разговоры ни о чём, в которых сквозят, но никак не могут выговориться три страшных слова – «Я», «Тебя»…
Влюблённых, конечно, испытывали. Портфель пытались отнять, а твою девчонку опрокинуть и вывалять в снегу. Если влюблённый выстаивал в схватке со многими завистниками, его переставали дразнить.
Вечерами не обязательно было обниматься под фонарями: дотронуться было страшно. В кино можно было сидеть в разных рядах: достаточно было находиться в одном зале, смотреть один и тот же фильм в одно и то же время.
А оно шло.
Однажды в овраге мы случайно нашли весьма фривольную плёнку (негатив), но ничего особенного в мути проектора, поставленного для предосторожности в ванну, не рассмотрели.
Гаденький журнальчик Cavalier (Кавалер?) мы имели счастье рассматривать лет в 13 на дому у одного из нас. Это произведение лёгкой эротической периодики неизвестно зачем хранила в обычном югославском серванте одинокая мать нашего приятеля. Помню, что внутренне себе это хранение так и объяснял: одиночество.
Далее – родители одного из нас, парнишки довольно скользкого, увлекались весьма частными снимками, которых у него дома был якобы вагон. Отчего-то когда именно я заявился к нему с целью приобщения к завлекательному просмотру, он резко отказался демонстрировать мне что-либо. Что он чувствовал? Что в глазах моих появится презрение к нему, перерастающее в отвращение?
И последний эпизод: одна из нас, ставшая потом чуть ли не работницей интимного цеха, имела неосторожность вынести во двор специфические лекции какого-то профессора. Дав прочитать нам буквально несколько наукообразных фраз этого фолианта, она вырвала из наших вспотевших ладоней эти жалкие на вид машинописные листочки, и бросилась домой, опасаясь, как бы не пришли родители.
Восьмой класс (1987): пачка фото за пазухой у одного довольно глупого парня, несколько мгновенных взглядов. Институт, первый курс (1989): цветной журнал, вынутый из сумки однокурсником. Отвращение парня, который, к слову, так же уехал в Израиль, но совершенно не так, как та старшая девочка из детства.
Вот и всё. Спустя 10 лет – Интернет, захлестнувший всех нас потоком порнографии, и качественной, и некачественной, но стабильно содержащий с некоторых пор раздел Russians, как некогда Japaneese, Latinas и все остальные избранные оттенки покорённых народов – стран третьего мира.
А я?
Посреди всей этой нестерпимой пестроты, разбушевавшейся передо мной и моим поколением, я вырос скучным и предсказуемым натуралом. И точно так же может сказать о себе огромная масса моих ровесников, у которых тоже всё вполне нормально, за исключением лишь вполне толстовской по оснастке «трагедии спальни», за которой если и проглядывает что-то, то разве что первый «не совсем удачный» брак.
Это как-то расходится с мнением о том, что в пуританском обществе растут сплошные уроды – тёмные, задавленные в самих себе и разряжающиеся только в домашнем насилии друг над другом.
Ложь.
Любя нас подлинно, наша пуританская Родина оберегала тайну соития от нас, слишком незрелых, чтобы понять её. Доступным созерцанию олицетворением Союза было его Политбюро – далёкое от плотских утех по возрасту и образу мыслей. Прожив бурный век, одолев Гитлера и запустив в космос первого человека, старики-агитаторы, старики-организаторы, старики-промышленники и старики-аграрии не зря считали, что вся эта кутерьма с половым вопросом только отвлекает от главного и насущного – любви к Отечеству. И всячески старались вразумить нас, молодых козлов, которым нужен был бунт против скуки под любыми флагами. Они были в принципе даже не против наших дискотек с западной квохчущей и клокочущей музыкой.
Первый поцелуй школьников мы увидели в «Чучеле» Ролана Быкова (ходили только ради этого поцелуя, о бойкотах и травле мы знали всё), а первое изнасилование – в «Избранных» Сергея Соловьёва (СССР-Колумбия). Помню, что после этой сцены побежал в ванную, где меня от отвращения вырвало. Пуританин и сын пуритан, в июньский вечер этого показа я внезапно осознал, что такое манящее плотское может стать врагом.
Только целомудрие строит.
Разврат способен лишь разрушать.
Были ли среди нас отчаянные сексуальные революционеры? Помню двоих. Один из них, теперь не в меру располневший, женился после своих проб удачно, обзавёлся двумя детьми. Теперь они совсем взрослые, а большие синие глаза озорника уже покрываются пеплом, смотрят словно бы сквозь мир, и это след заживающего греха. Грех, словно хвост Чужого, наносит душе страшные раны, которые надо лечить всю жизнь.
В 14 я пережил первый полномасштабный роман: поцелуй и пламенное объяснение, после которого стало ясно, что второго поцелуя не будет. Второй роман, ничем не отличавшийся кардинально от первого, последовал через пару недель. Третий выстрелил не раньше весны… Пять-шесть имён своих «возлюбленных» я вынес из школы на вытянутых руках, и не было на них ни крови, ни почвы. Никто не пострадал.
Тех, кто в этом возрасте переходил к чему-то большему, сторонились: они в наших глазах падали в смысле вполне библейском.
Осуждая их, мы странно гордились тем, что якобы удержались на последней черте, хотя практически ни у кого не было шансов подойти к ней на приличествующее расстояние.
Пуританство развивало воображение. На той зоне мозга, где оно развивается, у нас до сих пор накачаны огромные мышцы. И лишь разгул современной порнографии ослабил их, превратив в пассивные придатки.
Учёные, если они честны, обязательно отметят это ослабление чувства в обществе, подавленного информационным потоком самого примитивного и растленного свойства. Впрочем, что мне до учёных, если я – ЧУВСТВУЮ это раньше всех них?
Доступность информации, право на которую объявляется священной коровой, разоблачение тех жизненных сторон, которые и находятся-то в тени исключительно потому, что им там самое место, подрывает основы не какого-то там абстрактного общественного строя, а ломает само общество, подменяет его уникальную архитектонику ментальность набором усреднённых грошовых ценностей. Так запираются двери в будущее. Толкающие в школы программы по половому развитию и сами, наверно, не до конца понимают, какую бомбу подкладывают под нашу ущербную демографию…
Мне иногда жаль сегодняшних молодых: у них, как у нас, нет уже даже в генетической памяти духа великой страны, патерналистски оберегавшей нас от свинцовых мерзостей «секса».
Когда-нибудь наше пуританство поймут и оценят как величайшую ценность, если только в тех, будущих веках восторжествуют истинные ценности – Мысль и Чувство, Идея и Вера.
Сергей Арутюнов
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.