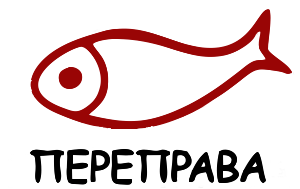Она была замечена на дачном участке в середине лета. Судя по всему, отыскала брешь в старом заборе. А ведь ещё совсем недавно хозяева, у которых мы пятый год снимали этот клочок подмосковной земли с домиком, уверяли нас в том, что тщательно заделали все огрехи в ограждении. Во всяком случае, убеждали безо всякой боязни оставлять в беседке еду, не карауля ее.
Она была замечена на дачном участке в середине лета. Судя по всему, отыскала брешь в старом заборе. А ведь ещё совсем недавно хозяева, у которых мы пятый год снимали этот клочок подмосковной земли с домиком, уверяли нас в том, что тщательно заделали все огрехи в ограждении. Во всяком случае, убеждали безо всякой боязни оставлять в беседке еду, не карауля ее.
Первым, что привлекло к ней внимание, была, конечно же, её красивая белая шерсть, без единого пятнышка, чистая, нигде не свалянная. Похоже, она была домашней, но на ней что-то не видно было ошейника. А впрочем, движения её были так стремительны, что его можно было попросту не заметить. И потом, зачем, в таком разе, чистой ухоженной собаке рыскать по чужим дачам в поисках еды? К слову, она не стащила у нас ни единого кусочка. Да и ко мне, признаться, ни разу так и не приблизилась, а только мелькала большим белым пятном в зарослях чёрной смородины у забора. Даже породу её не удалось определить точно: во внешности её было что-то неуловимое от ирландского сеттера. Отчего-то страстно захотелось заслужить её расположение, и потому несколько раз приближался к ней с различными лакомствами, но незваная гостья спешно убегала, почти мгновенно исчезая из виду, словно растворялась. Но почему? Неужели её так сильно обидели когда-то люди? Но, слава богу, животное не было покалечено, наоборот, радовало глаз чистотой линий и стремительной грацией. Не могу передать, как желал покормить её из рук, дабы разочек коснуться пальцами её белоснежной шелковистой шерсти и, потрепав за загривок, утопить в ней свои пальцы. Но мечте этой так и не суждено было сбыться.
Позже, потеряв всякую надежду на сближение и завидя её издалека, выносил косточки заграницы участка и оставлял в тени у подножья высоких сосен, а сам уходил в дом, для наглядности громко затворив за собою дверь. Вернувшись через некоторое время, всякий раз заставал пластиковую тарелку опустошённой. Что всякий раз радовало меня, но и, не скрою, огорчало. Получалось, что она вовсе не отказывается от еды, но отчего-то не желает брать её из моих рук. Но отчего? А ведь я был добр к ней, ни разу не прогнал с участка, даже голоса не повысил, а только подзывал ласково. Да вот, похоже, так и не уговорил.
И чем я не приглянулся этой красивой белой собаке?! Почему всякий раз, завидев меня, бежит прочь? А ведь, кажется, ни разу в своей жизни не обидел ни кошку, ни собаку, не мучил» братьев наших меньших», как иные в детстве. И вот тогда-то порой услужливая так некстати память и вытолкнула из самых потаённых своих глубин историю, о которой хотелось забыть все эти годы, да что там годы – почти пять десятилетий. И уже казалось, что позабыл напрочь, навсегда. А вот надо же...
Совсем не помню её щенком, а уже взрослой собакой по кличке Тузик. Кажется, она всегда жила в нашем маленьком Бакинском дворике – эта крупная, на удивление добрая собака с густой, рыжей с подпалинами, шерстью. Ничья. Толи кто-то подобрал забавного кутёнка, то ли сама приблудилась, этого уже не узнать. А только жилось ей у нас совсем неплохо, потому как всяк старался угостить доброе послушное животное. Единственное, от кого страдал Тузик, – так это от малышей. Они таскали его по двору, ездили на нём верхом, дёргали за уши – пёс ни разу даже не гавкнул на них, как-то по-взрослому смиренно снося все их проделки, словно понимая, что это – дети, народ особый, а потому и относиться к ним следует по-особому. Собаки – они ведь очень часто добрые, но совсем не одинаковые. Что до нашего дворового Тузика, то он был, казалось, само воплощение доброты.
Уже сейчас, вспоминая давнее, подумалось: а почему, собственно, собаку, прибившуюся к тому бакинскому дворику трёхэтажного с мансардой старинного дома, густо населённого людьми самых разных национальностей, прозвали так пронзительно по-русски? Могли ведь наградить псину весьма популярной у меня на родине собачьей кличкой Алабаш, что в переводе с азербайджанского звучит как Пёстрая Башка, или Топлан, что сродни русскому Шарику… Так нет – Тузик. И вот здесь-то, возможно, и крылась одна из причин его будущей беды.
Дело в том, что у азербайджанцев, как и у иных приверженцев ислама, не принято держать собаку в доме. Кошка – иное дело, к ней отношение другое. Хотя завести кошку позволит себе не каждая семья. Здесь принято считать, что для одних это – к везению, а у иных – наоборот, что прослежено историей рода. А потому такие решения принимаются не наобум. Это стародавнее правило, а, по сути, суеверие распространяется не только на кошек, но и на певчих птичек и даже аквариумных рыбок. Словом, на любую живность в человеческом жилье. Да уж, что ни говори, как ни крути, а Восток – дело тонкое.
Собаке же, как считают здесь испокон веку, самое место только во дворе. В то давнее время и много лет спустя мне казалось, что таковое установление есть обычай сугубо мусульманский. Но когда через четыре десятилетия после описываемого события судьба распорядилась мною самым неожиданным образом, да так, что призван был потрудиться помощником настоятеля в православном приходе, не без удивления обнаружил, что и здесь всё очень похоже. И если, к примеру, в церковь каким-то образом пробралась собака, то храм могли и заново освятить. К тому же автора этих строк всегда смущала поговорка, которой, помнится, отреагировал некогда российский государь на гибель великого, совсем ещё молодого поэта, сложившего голову на дуэли в Пятигорске: «Собаке собачья смерть». А ещё соплеменники мои, как, впрочем, представители многих иных – если не всех – народов, разгневавшись на кого-либо, нет-нет да и выкрикнут в его адрес (или промолвят в сердцах) оскорбительные слова, почти идентичные русским, – «сукин сын» (или дочь). Почти по той причине, что здесь это дословно звучит как «сын пса». Да и само название самки, что рождает очаровательных щенят, будущих незаменимых помощников скотовода и охотника, воина и домовладельца, давнее оскорбление в устах многих и многих людей в разных концах мира.
Но почему? Чем заслужили эти не просто обидные, но, согласитесь, откровенно презрительные слова извечные четвероногие спутники и друзья человека, любящие его жертвенно и безоглядно, и именно поэтому во все времена являя собой символ беззаветной преданности? Для автора это было и остаётся загадкой. Согласитесь, если напившегося, что называется, встельку, валяющегося в придорожной грязи человека называют свиньёй, а упрямца традиционно именуют ослом, то здесь наличествует хотя бы очевидное внешнее сходство. Но собак-то за что?!
Справедливости ради, не могу не сказать и о том, что эти же два слова может произнести – но уже с оттенком тихой радости и даже ликования – человек, играющий со своим или даже чужим, живущим по соседству или родственным ему ребёнком. И никто из родителей крохи не удивится, не обидится и не оскорбится, а все окружающие лишь разулыбаются, услышав из уст шутливо тискающего упитанного малыша, треплющего его за румяные щёки ли подбрасывающего вверх эти извечные «кёпек оглу» или «кёпейин гызы», в зависимости от пола ребенка. Что, надеюсь, не нуждается в переводе. Можно вспомнить ещё к месту хрестоматийное: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!», восторженно и столь неожиданно обращённое поэтом к самому себе. Но это, согласитесь, всё же исключение.
Что до усатых-полосатых, которые, как известно, живут сами по себе, то они во все времена безнаказанно разгуливают по нашим храмам, нисколько не ущемлённые в своих правах и слывя общими любимцами. И только одно неизменно заботит служащих – чтобы своенравные грациозные животные не проникли бы в алтарь, который влечёт их отчего-то со страшной силой… Вспоминаю, как, придя в келью одного известного иеромонаха, ведущего воистину подвижнический образ жизни и спасшего сотни людей от тяжкого греха пьянства и наркомании, застал его за чаепитием, а рядом с ним уютно пристроился большой красивый кот. Уловив мой неподдельный интерес к животному, батюшка произнёс вдруг совершенно неожиданное: «Знакомьтесь, это наш Наркоша. Знаете, он у нас почти крещёный…» И не дав пройти моему изумлению, продолжил свой рассказ. Оказалось, что после Таинства крещения, традиционно предваряющего в этой обители исцеление страждущих и болящих, когда алтарники ещё не успели донести до сухого колодца святую воду, любопытный вездесущий кот прыгнул и со всего размаха угодил в… крещальную купель.
Можете представить что-либо подобное по отношению к собаке?
Мне всегда нравились собаки, даже после того, как ещё малышом был больно покусан одной из них. Однако обзавестись заветной восточноевропейской овчаркой с давно заготовленной кличкой не позволяла как названная выше причина, так и многолюдность нашей тогдашней квартиры. Нам, тогдашним юнцам, и в голову не могло прийти мечтать стать барменом или, скажем, логистиком (услышал недавно и такое от одного школьника). Наше дворовое мальчишеское сообщество подразделялось (но не делилось, ибо все мы, разного возраста и разных национальностей, разного материального достатка, были всё же некоей семьёй) на танкистов и лётчиков, моряков и пограничников. Да, мы и в самом деле были разными, но и в совокупности этой нашей разности были всё же иными. У всех нас была одна Родина, и мы горячо любили её.
Я в ту пору бредил пограничной заставой. А потому и кумиром моим был герой Советского Союза пограничник Карацупа со своей знаменитой служебной овчаркой по кличке Джульбарс. Сколько книг прочитал я тогда о смелых, отважных пограничниках и их бесстрашных четвероногих друзьях, помогавших держать государственную границу, что называется, на замке. Но не светило мне это счастье, не светило...
Что же до полученных некогда укусов, то вина тут, конечно же, целиком и полностью лежала на мне самом – не надо было дразнить хорошенькую шелковистую болонку, что мирно проживала на нашем третьем этаже. К её хозяину, которого я называл дядя Гога, благородному старому грузину, даже мой суровый дед относился с подчёркнутым уважением по причине того, что сосед наш дослужился до полковника ещё в царской армии, да и при новой власти успел славно повоевать, каким-то чудом избегнув репрессий. Он дремал обычно, водрузив на орлиный нос тёмные очки с тонкой дужкой и зелёными стёклами и укрытый поверх военного кителя всегдашним клетчатым пледом, в широком плетёном кресле, которое каждым солнечным утром выносила на внутренний кольцевой балкон его вторая жена Минна Наумовна, бывшая гораздо моложе супруга. Из-за склочного, не в пример супругу, характера и надоедливой крикливости наши дворовые, как вы уже сами, наверное, догадались, прозывали её за спиной Бомбой Наумовной.
Завидев меня, старик, как правило, подзывал к себе, всякий раз хлопая в ладоши и повторяя один и тот же стишок: «Чарлик-Чарлик, что с тобой? Ты лежишь совсем больной…» И было не совсем понятно, к кому относится этот «Чарлик», – смуглому кудрявому соседскому мальчугану или кучерявой же собачке, не отходившей ни на шаг от своего хозяина и преданно охранявшей его покой. Странно, но пёсик неизменно добродушно вилял хвостиком, когда стихи декламировал его хозяин, но стоило известные строчки, обращаясь к ней, произнести мне, как тут же заливался злобным лаем, так не гармонирующим с его лубочным экстерьером. Вот и придумал я тогда эту дурацкую забаву – выкрикнув злополучный стишок, успеть забежать из балкона в коридор и захлопнуть за собой дверь. Несколько раз мне это удавалось.
Что до нашего Тузика, то он наверняка получил свою русскую собачью кличку от русского же человека, первым пожалевшего его, приветившего и накормившего, что с моими соплеменниками, чего греха таить, в большинстве своём не умеющими преодолеть многовековую традиционную брезгливость к этим четвероногим, да ещё безродным и бездомным, встречается гораздо реже. Но двор-то был общим. Вот и Тузик стал общим. А значит, и ничьим. Но этому тогда никто не придавал значения. Как и сама упитанная животина, добродушно виляющая пушистым рыжим хвостом. Хочу отметить ещё одну особенность этой дворняги – это всё же нечасто встречающаяся у собак некая деликатность, что ли. Она никогда ничего ни у кого не клянчила, никогда не позволяла себе, играя с человеком, положить на него передние лапы, рискуя вымазать одежду. Словом, ни разу никого не огорчила. Дворовая же детвора пользовалась добротой и терпимостью собаки так, что оставалось только диву даваться. Они и ездили на Тузике, благо он был собакой крупной, тянули за уши и гоняли по двору, вздымая пыль, к вящему неудовольствию жильцов первого этажа, а ещё расчёсывали, наряжали в человеческую одежду, да мало ли чего… Хоть бы разок огрызнулся.
И ещё одна особенность. За все эти годы собака ни разу не позволила себе подняться по лестнице – ни по чёрной, ни по парадной. Как и не забежала ни в одну из квартир первого этажа с настежь растворёнными летом дверями, невзирая на все уговоры и подначки детворы.
Согласитесь, было за что полюбить добродушного рыжего пса. И только один человек невзлюбил его. Этот мужчина, носящий имя великого восточного поэта древности, женился на перезревающей вот уже который год соседке со второго этажа, но с первых же дней повёл себя по-хозяйски. Вернее, попытался. Но ни услужливо протянутые бутылки с ледяным «Жигулёвским» душными летними вечерами, ни гостеприимно распахнутые пачки фирменных душистых сигарет не возымели своего действия, на которое, похоже, он так рассчитывал. Поборов соблазны, молодые мужчины и парни нашего двора так и не «прописали» этого примака. Не помогли тёзке гения ни солидный по тем временам возраст (когда мужчины не молодились, а стремились выглядеть постарше своих лет), ни столь же солидная, под стать, ранняя лысина. А только вечерами уютный наш дворик нет-нет да оглашался его визгливым голосом, истерически запрещавшим дочери прикасаться к «этой заразной собаке». Тузик же, по-видимому, каким-то собачьим чутьём, шестым своим чувством осознавал, что эти громкие неприятные звуки имеют всё же какое-то отношение и к нему. Но вот какое – так и не мог взять в толк, ведь никому ни разу не причинил зла. Вот и получалось, что девочка страдала не только от того, что частенько вынужденно выбывала из наших весёлых игр, но и всякий раз, краснея из-за выходок своего папы, без устали покушавшегося на общего любимца, который, к слову, проживал здесь гораздо дольше его самого. По всему было видно, что со временем избавление от безобидной твари стало для нового жильца делом чести.
 А только время шло, старела и наша дворовая собака. Жизнь на улице, пусть и в южном городе, не красит жизнь. И вот случилось так, что Тузик заболел. Шерсть, ещё недавно радовавшая глаз, облезла, обнажив розоватую пятнистую, потрескавшуюся местами кожу, обильно покрытую незаживающими ранами. Одна сердобольная русская бабушка взялась было лечить пса снадобьями, которыми пользовалась и сама, но они не приносили бедняге облегчения. Со стороны это и впрямь было зрелищем не из приятных. С собакой почти перестали играть, что, похоже, не слишком-то её и огорчало: это было старое больное животное, более всего нуждающееся, пожалуй, в еде и покое.
А только время шло, старела и наша дворовая собака. Жизнь на улице, пусть и в южном городе, не красит жизнь. И вот случилось так, что Тузик заболел. Шерсть, ещё недавно радовавшая глаз, облезла, обнажив розоватую пятнистую, потрескавшуюся местами кожу, обильно покрытую незаживающими ранами. Одна сердобольная русская бабушка взялась было лечить пса снадобьями, которыми пользовалась и сама, но они не приносили бедняге облегчения. Со стороны это и впрямь было зрелищем не из приятных. С собакой почти перестали играть, что, похоже, не слишком-то её и огорчало: это было старое больное животное, более всего нуждающееся, пожалуй, в еде и покое.
…Это случилось в августе, когда большинство ребят разъехались – кто в пионерский лагерь, кто на дачу, спасаясь от нестерпимой жары. Те же, кто вынужденно оставался в городе, целыми днями пропадали на пляже, возвращаясь домой поздно вечером. А потому во дворике нашем было необычно тихо и пустынно. Я же буквально на днях вернулся из поездки к дальним родственникам и время своё проводил большей частью в безделье и грёзах, вновь и вновь вспоминая вылазки в горы Малого Кавказского хребта, у подножия которых отдыхал в то лето. С кем бы ни говорил, что бы ни делал, они всё время стояли перед моим мысленным взором – эти величественные, покрытые густыми лесами горы со снежными шапками и шумными студёными реками со снующими в них стайками радужной форели и навсегда взявшие в плен моё маленькое сердце, заворожив его своей неземной красотой. Как не хватало мне сейчас их таинственной тишины, свежего прохладного воздуха, а ещё – новых друзей, которыми успел обзавестись за последние два месяца… вот и ожидал с нетерпением субботнего дня, чтобы уехать с папой из убийственной духоты города на дачу под густую спасительную тень древних смоковниц и живительному, прохладному и бодрящему морю.
От книги по внеклассному чтению меня отвлекли громкие незнакомые голоса, доносящиеся из гулкого парадного. В следующий миг я уже был в общем коридоре нашей коммунальной – на четыре семьи – квартиры и буквально остолбенел от того, что увидел стоящего посреди…Тузика. Что ему тут делать?! А из-за распахнутой двери, обычно запертой, но распахнутой настежь из-за несносной жары, с лестницы, слышались чьи-то приближающие крики, кто-то его искал. «Он здесь! Он здесь!» – закричал я… То ли азарт происходящего так повлиял на меня, то ли неожиданно свалившаяся возможность хоть как-то разнообразить утомительно жаркий и столь же скучный, а потому кажущийся бесконечным день. Конечно, сегодня можно было бы разъяснить, и очень убедительно, причины моего тогдашнего поступка, все до единой уважительного психологического свойства, да только к чему? Разве недостойный поступок может с годами обрести некое достоинство?
…Нас, жильцов этой коммуналки, на тот момент оказалось всего двое: показалась ещё из своей квартиры старенькая бабушка Марфуша Гришина. Оно и понятно, день-то был будним и потому все взрослые были в этот час на работе.
 Автор рассказа в родном бакинском дворике. Начало 60-х
Автор рассказа в родном бакинском дворике. Начало 60-х
Не успели мы опомниться, как в помещение стремительно вбежали двое мужчин, у одного из которых в руках была палка с петлёй на конце. В следующий миг он ловко накинул её на шею Тузика и поволок собаку на лестницу. Хотя, признаться, «поволок» здесь не самое удачное слово, потому как собака послушно пошла сама, не огрызаясь, не делая даже попыток вырваться, а лишь понуро склонив голову и проявив тем самым удивительную покорность, от которой больно защемило сердце. Я всё ещё пытался утешить себя мыслью о том, что эти люди отвезут её к ветеринару, который подлечит Тузика и вернёт обратно во двор, но короткая фраза, еле слышно произнесённая соседкой как бы для себя самой, разбила эту призрачную надежду, за которую хотелось уцепиться, чтобы не было так жутко: «Собачий ящик…»
«Зачем?» Мой детский вопрос некоторое время висел в воздухе, потому как наверняка прозвучал нелепо для очень взрослого человека, много повидавшего в этой жизни, а главное –пережившего недавнюю войну. «На мыло», – также спокойно ответила женщина. «На какое мыло?» – задал я второй нелепый вопрос, но он таки остался без ответа, потому как, скорбно качая седой головой, повязанной всегдашним белоснежным платочком, бабушка Марфуша зашаркала к себе, плотно притворив за собою дверь...Этим же вечером, еле дождавшись прихода с работы отца, я добился от него рассказа о том, как несчастных собак свозят на городскую живодёрню для того, чтобы, умертвив, вытапливать из них жир, который, в свою очередь, используют для приготовления мыла. Вот почему – вдруг мелькнула детская догадка – на стадионе возмущённые решением арбитра болельщики неистово скандируют: «Судью на мыло! Судью на мыло!» Однако сейчас это звучало совсем не так забавно, как совсем ещё недавно, – ведь люди страстно желают другому человеку смерти из-за… пробитого кем-то мяча или незамеченного движения игрока. Смерти страшной и мучительной, лютой.
Выходило, что каждый душистый кусок мыла незримо таил в себе смерть. И брать его в руки ребёнку следовало отныне со скрытым ужасом и брезгливостью. Как странно: оказывается, путь к здоровью и чистоте человеческой плоти пролегает через страдания невинных тварей, самых преданных ему из всего сонма сотворённых Богом животных. «В здоровом теле – здоровый дух». Какой вздор…
И пусть прожил к тому времени не так уж много лет, никогда в своей жизни не испытывал доселе такого горя и позора. Помню, как, вернувшись с работы и узнав о происшедшем событии от возмущённых жильцов ещё во дворе, куда она неизменно заглядывала, идя со школы, чтобы отдышаться после улицы перед подъёмом по парадной лестнице в долгих шестьдесят ступеней, любимая бабушка, заменившая мне мать, выговаривала: «Понимаешь, она поднялась к нам на третий этаж, забежала в квартиру, чего не было никогда! Это она искала у нас защиты! Вай-вай, какой гюнах, какой грех!» Всё, всё я теперь понимал, и горевал, и плакал в ту ночь, и многие ночи потом, тщетно пытаясь заснуть, лёжа под усеянным звёздами чёрным низким небом на открытом балконе, а неопытное ещё к страданиям детское моё сердечко так и разрывалось от жалости к несчастной собаке, от горького стыда и трагического отсутствия возможности хоть что-то теперь изменить…
И чем дольше жил, чем старше становился, тем чаще приходилось мне испытывать это мучительное щемящее чувство, от которого, казалось порой, не выдержит муку и разорвётся сердце, или, как говорила по-азербайджански бабушка, треснет душа. Это и холодное предательство самых близких людей, отстранённость и нелюбовь родителей, и ранний, сокрушительно неожиданный уход из жизни бабушки, оставивший меня, ещё подростка, один на один с миром, позже – вынужденная разлука с дочерью, а спустя десятилетие – и с родным городом…
Когда Таинство Святого крещения завершилось, и жена, не доверяя мне, сама тщательно вытирала мне волосы, потому как предстояло распроститься с уютным тёплым храмом и выйти на декабрьскую московскую улицу, батюшка подошёл к нам и, преподав мне первое пастырское благословение, радостно поведал нечто совершенно удивительное, о чём новоокрещённый раб Божий Василий не только не знал, но и не смел бы помыслить в самых дерзких своих мечтах. И что придало совершившемуся ныне величайшему событию в его непростой жизни ещё большую ценность, добавило какие-то новые драгоценные оттенки. «А знаешь, дорогой мой, какой подарок приготовил тебе Господь за твой поступок, а?» – спросил батюшка. И, выждав немного, сам же и ответил: «Он прощает тебе все твои грехи, которые ты совершил до сего дня». «Ой, а я не знал про это!» – выпалил сорокадвухлетний мужчина совсем по-детски, отчего-то испугавшись быть заподозренным в какой-либо расчётливости. «Ну вот и хорошо!» – обрадовался отец Иван, и, кажется, не меньше моего.
Да эта радость не могла мне даже присниться! И ещё какое-то – увы, непродолжительное –время жило во мне это непередаваемое словами, но наверняка знакомое тем, кто, как и автор этих строк, сознательно крестился уже взрослым, состояние удивительной внутренней чистоты – того, что называется душою, совсем как белоснежное бельё, просушенное на свежем воздухе под ярким солнцем. Но прошло совсем немного времени, и оно начало покрываться вначале мелкими, а потом всё более крупными серыми пятнами и тускнеть, тускнеть, тускнеть… Но если всё так, если Он мне простил всё, то почему все эти десятилетия не могу простить себя я сам? Настолько маловерен? Помнится, мудрый батюшка сказал мне как-то на исповеди, правда, по иному поводу: «Знаешь, главное в твоей жизни всё же случилось – ты поверил в Бога. Дело за небольшим – научиться верить Богу». Что, признаюсь, оказалось делом очень непростым, невзирая на некую похожесть звучания. А потому вновь и вновь, как в детстве, в том далёком бакинском душном полуденном августе, прошу Его простить мне, таки не сумевшего простить самого себя и забыть.
А ещё нынешний обильно поседевший пятидесятисемилетний мужчина, много чего повидавший на своём веку, тешит себя заветной мечтой, которая наверняка покажется кому-то непозволительно детской. Просить Господа, на неизреченную милость Которого с некоторых пор единственно и уповает, когда настанет заветный предел, к которому надо бы готовиться с мужеством и смирением, чтобы там позволено было ему, встав на колени, обнять ту, преданную им когда-то, вольно или невольно, собаку, чтобы наплакаться в её мягкую рыжую шерсть, испросив прощения. Что, возможно, снимет наконец-то давний тяжкий груз с его сердца.
…Что до белой собаки, то она неожиданно исчезла – как и возникла – в то самое лето ещё до окончания дачного сезона, да так и не появилась, как я её ни высматривал. Правда, совсем недавно, в сумерках, заворачивая на машине к нашему домику, ещё издали заметил очень похожую собаку и очень ей обрадовался. Но когда приблизился вплотную, то увидел, что было совсем другое животное, со свалянной, в комочках грязи, шерстью. Та, давняя, была совсем иной – белой и чистой.
Ирзабеков Фазиль Давуд-оглы,
в Святом крещении Василий
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.