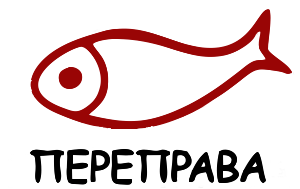1967 году я съездил в свою первую творческую командировку. Тогда я еще учился на факультете журналистики МГУ и писал в студенческую газету разные репортажи.
Неожиданно меня вызвали в деканат и сообщили: с тобой хочет познакомиться главный редактор одной из самых влиятельных газет страны...
- Зачем?
В ответ пожали плечами.
В кабинете главного меня встретили двое представительнейших мужчин. Мне пожали руку и стали расспрашивать о семье, о занятиях спортом, о моих интересах.
- Это вы пишете в студенческой газете такие замечательные репортажи? - спросил главный, сидевший слева от меня. Я, признаться, слегка покраснел. Спросить-то он спросил, но в глаза мне не смотрел. Все время вертел в руках дорогую самопишущую ручку.
Молчавший до сих пор, сидевший напротив мужчина, изучавший меня пронзительным взглядом, спросил вдруг:
- Вы проходили на факультете этнографию?
- Только ее основы, - ответил я с недоумением.
- И на какую тему вы писали курсовую работу?
- Не помню, - ответил я, - что-то про японские жилища.
- Так это то, что нам нужно, - встрепенулся он. - Мы хотим вас послать в интереснейшую командировку, в Сибирь, вы же знаете ее, бывали в тайге...
- А причем здесь тайга?
- В Иркутской области живет очень необычный человек. Авиационный инженер, интеллигент, и вдруг забрался за сто пятьдесят километров в тайгу и живет там один, ни с кем не общаясь. Выстроил дом своими руками, причем дом такой, как двести лет назад, усадьба. У него хозяйство, лошадь, кажется, даже пчел держит. Охотится, естественно, рыбачит. Но это не главное, он продал мед и купил два мотоцикла и из этих двух мотоциклов сделал самолет.
- Что?..
- Самолет, самый настоящий...
- Но зачем?
- Ну, наверное, заболеет если, то к врачу слетать. Сто пятьдесят километров - это тебе не шутка, пешком не сразу доберешься.
- А что, в вашей редакции не нашлось человека, который мог бы...
- Дело в том, что он очень нелюдимый, никого к себе не пускает. Он обижен, он в свое время был репрессирован, ну, времена были, вы же знаете. А тут приезжает студент, интересуется бытом, этнографией, гляди, старик и расслабится. И напишете вы для нас очерк о его доме, о том, как он живет, чем дышит... И вообще, там красотища, река, озеро, в котором отражаются кровавые закаты. Так что напишите что-нибудь, как у Артура Конан Дойла - «Этюд в багровых тонах». Кстати, - переменил он тон с полушутливого на серьезный, - гражданская авиация в те места не летает, придется вам лететь военным самолетом.
И я, воодушевленный до крайности, естественно, согласился...
Самолет, на котором предстояло лететь, оказался американским «Дугласом» 1937 года. Он был до предела забит «стратегическим» грузом. К его бортам были прижаты очень неудобные металлические креслица, на одно из них я и присел. Мы взлетели. Самолет поднялся на неслыханную высоту - восемьсот метров, дальше не пускала плотная облачность. Мы совершили две промежуточные посадки и наконец прилетели. У трапа меня ждала машина - «ГАЗ-69А» (вездеход), и я продолжил путь. Ноги у меня затекли, спина ныла, но я держался. Я чувствовал себя молодым разведчиком из какого-то послевоенного фильма, которого забрасывают в глубокий тыл врага. Ехали долго. Водитель молчал...
И вдруг дорога кончилась. Я выбрался из машины и с наслаждением потянулся.
- Дальше пойдешь пешком,- сказал молчаливый водитель и с сомнением посмотрел на меня. - Видишь сопку, видишь кривую сосну в прогалине, на нее и ориентируйся. Обогнешь сопку с левой стороны, будет река, пойдешь вдоль течения и как раз - упрешься в дом старика. Оружие у тебя, однако, есть?
- Откуда у меня оружие? Он открыл заднюю дверцу своего «газика», достал из-под сидения охотничий карабин.
- Обращаться умеешь?
- Приходилось.
- В магазине пять патронов, вот тебе еще десяток, на всякий случай, тайга все же... Однако понапрасну не пали...
- А далеко идти-то?
- Да нет, километров пятнадцать...
И он уехал, а я, вскинув карабин на плечо, дулом вниз, пошел в заданном направлении. Было удивительно тихо после Москвы, после гула самолетных моторов. С кедров падали шишки, я поднял одну, расшелушил и стал грызть орешки. Я быстро разошелся, усталости не чувствовал. Очень хотелось пить. Решил было спуститься к ручью, который протекал метрах в пятидесяти от меня, но вовремя остановился. Забавно хлопая лапами, в воде резвились два медвежонка. С удивлением наблюдая за ними, вдруг вспомнил, что рядом может оказаться их мать. Невольно выдвинул ствол карабина вперед и тихо-тихо двинулся дальше. Часа через три я увидел «усадьбу», выстроенную скорее в северном, чем в сибирском стиле. Высокий дом с подъездом на сеновал и вокруг хозяйственные постройки. Навстречу бросились две лайки, но не залаяли и не зарычали, а стали прыгать вокруг и заглядывать в глаза. Подойдя к ограде, я увидел высокого человека, пристально разглядывавшего меня. Я ожидал увидеть замшелого деда в одежде Робинзона Крузо, но передо мной стоял вполне цивильный человек, в простом костюме, брюки были заправлены в очень высокие сапоги. У него были белые волосы и очень густые черные брови. Был он высок и совершенно не сутулился.
- С кем имею честь? - спросил он, когда я поздоровался.
Я стал объясняться, показал документы, студенческий билет.
Некоторое время он изучал меня внимательными темными глазами и вдруг спросил:
- А фамилия у тебя откуда такая?
- От отца... - удивленно ответил я.
- А он откуда родом?
- Из Забайкалья, родился в станице Буй, похоронен в Иркутске.
- А деда твоего случайно не Романом Антоновичем звали?
Я кивнул головой, и он, протянув мне твердую, как из дерева выточенную руку, произнес:
- Воронцов, Михаил Алексеевич Воронцов. Заходи... На крыльце он оглянулся:
- А похож ты на своего деда, похож...
- Вы знали его? - спросил я, но Михаил Алексеевич промолчал.
Мы вошли в довольно просторное помещение. Я снял рюкзак, ботинки, карабин оставил у входа. Было приятно ощущать под шерстяными носками гладкие доски пола. Михаил Алексеевич перекрестился перед старинным киотом, висевшим в красном углу. Поморщился, увидев, что я не последовал его примеру. Сказал сдержанно:
- А дед твой верующим был, очень верующим.
Я тщательно умылся под старинным умывальником, вытерся удивительно чистым полотенцем, пахнущим хвоей и еще какой-то травой. Михаил Алексеевич стал ставить на стол совершенно удивительную еду, которая в городе называется «деликатесами»: рыбу, холодное мясо, мед, ягоды... Стараясь есть сдержанно, я ждал вопросов хозяина, но он молчал. Вместо чая мы пили очень вкусный отвар из неизвестных мне трав...

- Тебя, небось, больше всего интересует, откуда я знаю твоего деда? - спросил он наконец.
Я кивнул головой.
- Я тоже родом из тех мест, из станицы Буй... Что ты знаешь о Романе Антоновиче, отец рассказывал тебе?
- Я знаю только то, что он участвовал в Русско-японской войне, был в плену...
- А то, что он был подполковником, он рассказывал?
- Нет, он не любил как-то вспоминать, о последней войне, кстати говоря, тоже...
- Ну, война - это война, а вот дед... Дело в том, что в станице Буй в 32-м году было последнее восстание против советской власти. И дед твой стал в этом восстании главным фигурантом.
- Как так? В 32-м году, восстание, когда уже...
- Вот именно. По постановлению комбеда - комитета бедноты, было такое странное общественное образование - решили разрушить в станице храм, старинный казачий храм. Ну, станичники и возмутились. И дед твой был там, естественно. Так эти проходимцы красноармейцев привезли и давай колокола сбрасывать. А дед твой, Роман Антонович, вечная ему память, бросился остановить это кощунство...
- И что же?
- Застрелил его красноармеец. Тут и началось... Я в сарайчике спрятался, до сих пор перед глазами стоит картина: куры кудахчут, пытаются взлететь и тут же падают, в клочья изрешеченные пулями. Потом я видел много людей, убитых людей - их красные стаскивали на площадь и укладывали рядами.
-А вы?
- Нет, я в восстании не участвовал, приехал навестить родственников. Я в то время в Иркутске учился, в университете, и увлекался авиацией, мечтал строить самые быстрые самолеты... Но этого обстоятельства не учли, двинули прикладом по почками затолкали связанного в тачанку, и повезли, и срок дали такой...
- И после всего этого вы решили порвать с людьми и жить так, как вы живете?
- Не после этого... Но я уж закончу предыдущий рассказ. Дядя твой, Николай Романович, осерчал, конечно. Он ушел во Внутреннюю Монголию, собрал отряд, и долго этот отряд по ночам тревожил «товарищей». А что касается меня, то я не из-за этого уединился. Когда я сидел, там была большая толчея. Некуда было спрятаться. Я устал от многолюдства. А потом в городе, где живут моя дочь и внучка, совершенно другие люди. Я словно из другого времени. Я верующий человек, а у меня пытаются отобрать веру, насильно внушить безбожие. А жить без веры - это значит жить без стыда, без совести! В национальном сознании русского православного человека - жить по совести - естественное состояние. Это абсолютная ценность. Если деяние человека не соответствует этому идеалу, эта личность и душа считаются пропащими. «В ком стыд, в том и совесть», - постоянно повторяет народная мудрость. Стыдно плохо работать, стыдно обмануть, стыдно взять лишнее, стыдно наживаться за чужой счет, стыдно нарушать заповеди Божий. Вера-это смирение, это доброта, правда и справедливость. Один из главнейших признаков жизни по вере - это правда. Это не формальное понятие, а абсолютное. Это мера добра и совести, полная истина души... Ты уж прости меня, старика, за то, что так разболтался, - одиночество! Внучка ко мне приезжает, так мы с ней и не наговоримся.
- А часто приезжает?
- Каждое лето. Она у меня красавица, приезжай и ты - гляди и поладите. Она тоже в университете учится, будущий биолог. А что, за тебя отдам, порода у тебя добрая.
Я потупился.
- А правда, что вы самолет построили?
Михаил Алексеевич рассмеялся.
- Какой самолет в тайге построишь!.. Хотя, - он вдруг погрустнел, - когда у меня жена умерла, была у меня такая мысль. Заболела она, а я ничем не мог ей помочь... Купил два мотоцикла, винты стал вытачивать, но потом бросил. Сделал автотележку, очень помогает в хозяйстве. Когда мотоциклы покупал, у меня один охотовед местный спросил, для чего покупаю? Я ему очень серьезно говорю, покупаю для того, чтобы самолет сделать и улететь куда-нибудь подальше из этого безбожного мира. Вот слух и пошел. Но я кое-что другое сделал. Сейчас мы ляжем спать, а завтра я тебе все покажу...
***
Михаил Алексеевич разбудил меня до рассвета. Он долго молился. Потом мы пили чай, вернее отвар из трав, а потом, поеживаясь от утренней осенней прохлады, пошли к озеру. И за поворотом, заросшим густым ельником, я вдруг увидел посреди водной глади церковь, стройный силуэт которой удивительнейшим образом отражался в воде. Я остановился в совершенном изумлении.
- Своими руками построил...
-Да как же она?..
- А она плавает, я сделал «подушку» из толстых бревен, она плавает. Я могу ее к берегу подтянуть, но не хочу. Это я в память о своей покойной жене, - добавил он печально.
Михаил Алексеевич вытащил из кустов легкую берестяную плоскодонку.
- Грести умеешь? - спросил он. Я умел. Мы подплыли к удивительной церкви, ступили на шаткий настил. Церковь слегка закачалась. Вошли внутрь. Это была настоящая церковь, с алтарем, престолом. Михаил Алексеевич запалил свечечки, лампаду.
- Она освящена, я батюшку приглашал, еле нашел. Ну, а теперь давай вести службу. Прочтем утренние правила, а затем я хочу почитать акафист святителю Николаю...
И под деревянными сводами раздались божественные слова: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа...»
Я стоял, и что-то потаенное просыпалось во мне, исконное, древнее и удивительно родное...
«Господи, иже многою Твоею благостию и великими щедротами Твоими дал еси мне рабу Твоему мимошедшее время нощи сея без напасти прейти от всякаго зла противна: Ты Сам, Владыко, всяческих Творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков, аминь...»
Я чувствовал, как к глазам моим подступали слезы, я крестился вместе с Михаилом Алексеевичем, неумело, чего-то стесняясь, но крестился и чувствовал, что совершаю что-то очень важное для себя, и не только для себя, для своих близких, для своих предков и родственников, о которых я узнал только вчера. Мы поминали их в молитвах, долгих молитвах...
Мы вернулись в дом. Пообедали.
- Умереть я хочу так, - серьезно сказал Михаил Алексеевич,- почувствую приближение смерти, поставлю посреди церкви гроб, сделанный своими руками, зажгу свечи, возьму Библию и в непрестанных молитвах буду ожидать её. Хорошо, конечно, если кругом священники, чтобы исповедаться, рассказать про всю свою жизнь, попросить прощения, причаститься, но здесь... Я так бы хотел умереть, - после некоторого молчанья добавил он. - И чтобы в открытые двери были видны звезды...
Я пожил у него неделю, а затем, после некоторых приключений вернулся в Москву. Я написал обо всем: о доме, о природе, о том, что Михаил Алексеевич не какой-нибудь анахорет, а тонкий человек. Рассказал смешную историю про самолет, как про него слух распустили, и... рассказал про плавающую церковь, как отражается она в тихом озере, и что не мешало бы ему помочь приобрести какой-нибудь маленький колокол, чтобы он мог звонить. И понес «свое творчество» в редакцию.
- Ну-с, - спросил меня тот, который, как и в прошлый раз, сидел напротив, - принес свой «Этюд в багровых тонах»?
Читал не главный редактор, а он. Читал и морщился.
- Так нет у него, говоришь, никакого самолета?
- Нет, конечно...
И он тут же позвонил и стал кричать в трубку: «Чем они там, черт возьми, занимаются... Ложные слухи распускают. Мы человека специального вынуждены были посылать... Правда, все равно он не наш, контра он. Послушайте, он там храм какой-то на воде построил, это что такое?! Да сожгите вы этот храм, сожгите, чтобы и дощечки не осталось...»
На ватных ногах я пошел к выходу.
- Считайте это началом нашего дальнейшего сотрудничества, - крикнул мне вслед тот, который только что кричал в трубку. Кстати, он так и не представился.
Я не знал, что делать. Я чувствовал жуткий стыд. За что, шептал я про себя, Господи, за что, ведь это я виноват, один я! Это я написал про храм, кто меня просил, журналиста несчастного?..
И ноги сами собой понесли меня в храм Святителя Николая в Хамовниках. Я упал на колени перед строгим ликом Спасителя и зашептал:
- Господи, Ты все можешь, помоги, спаси, прости меня грешного. Прости меня грешного, мой дорогой, родной Михаил Алексеевич Воронцов...
Но все кончилось благополучно. Позже я узнал, что храм этот с ведома Михаила Алексеевича местными жителями был разобран и надежно спрятан. И ощущение глубокого невыразимого счастья вновь коснулось моего сердца, потому что я понял: в ту поездку я обрел в душе новый необъятный мир, веру, любовь и чистоту.
Владимир ПЕСТЕРЕВ
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.