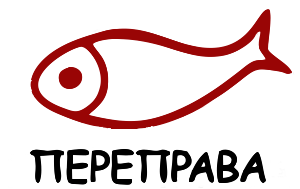Предлагаем вашему вниманию произведение известного российского писателя Александра Проханова, посвященное Пскову, его духовному прошлому и настоящему, дорогим для автора людям. Из содержания рассказа видно, что связь современного человека с верой, традицией и духовными истоками России гораздо крепче и сильнее, чем порой это кажется нам самим.
 Рос я без отца, сложившего голову под Сталинградом. И без братьев - мама и бабушка взращивали меня среди голода, разрухи, не давая погаснуть последнему огоньку нашего побитого рода. Псковские друзья были мне отцами и старшими братьями. Теперь, когда их нет на земле, я чувствую их присутствие в себе постоянно, как тайные слезы, любовь, сокровенную веру в бессмертие, в грядущую, нам уготованную встречу. Под стенами Изборской крепости с каменными крестами, бойницами, крохотными, растущими из развалин березами. Или наТруворовом городище, на каменных ступенях маленькой, драгоценно-белой Никольской церкви, куда в жару приходили овцы, и мы, окруженные их пыльными горячими телами, зелеными библейскими глазами, смотрели на озеро с плавающим лебедем. Иногда просыпаюсь и вижу себя молодым в разрушенном коробе мальского храма. Старательно прикладываю рулетку к щербатым стенам, обмеряю апсиду, проем окна, остатки каменных шершавых столпов. Бережно заношу контуры храма на неумелый чертеж, выполняя поручение любимого друга, реставратора Бориса Степановича Скобельцына, для меня - просто Бори. И он сам вдалеке приближается ко мне по цветущей горе, машет ржаным колоском. Не дойдя до церкви, делает несколько снимков, прицеливаясь в меня стареньким «Киевом», изгибаясь в странный иероглиф, похожий на большого журавля. Выхватывает из сияющего пространства исчезающую секунду, которая ныне, как засушенный цветок, лежит в моей коллекции фотографий, сделанных замечательным художником.
Рос я без отца, сложившего голову под Сталинградом. И без братьев - мама и бабушка взращивали меня среди голода, разрухи, не давая погаснуть последнему огоньку нашего побитого рода. Псковские друзья были мне отцами и старшими братьями. Теперь, когда их нет на земле, я чувствую их присутствие в себе постоянно, как тайные слезы, любовь, сокровенную веру в бессмертие, в грядущую, нам уготованную встречу. Под стенами Изборской крепости с каменными крестами, бойницами, крохотными, растущими из развалин березами. Или наТруворовом городище, на каменных ступенях маленькой, драгоценно-белой Никольской церкви, куда в жару приходили овцы, и мы, окруженные их пыльными горячими телами, зелеными библейскими глазами, смотрели на озеро с плавающим лебедем. Иногда просыпаюсь и вижу себя молодым в разрушенном коробе мальского храма. Старательно прикладываю рулетку к щербатым стенам, обмеряю апсиду, проем окна, остатки каменных шершавых столпов. Бережно заношу контуры храма на неумелый чертеж, выполняя поручение любимого друга, реставратора Бориса Степановича Скобельцына, для меня - просто Бори. И он сам вдалеке приближается ко мне по цветущей горе, машет ржаным колоском. Не дойдя до церкви, делает несколько снимков, прицеливаясь в меня стареньким «Киевом», изгибаясь в странный иероглиф, похожий на большого журавля. Выхватывает из сияющего пространства исчезающую секунду, которая ныне, как засушенный цветок, лежит в моей коллекции фотографий, сделанных замечательным художником.
Говорят, что Андрей Рублев внес в русское средневековье, в пору Московской Руси, лучистый свет Возрождения. Утверждают, что Пушкин под угрюмые своды тяжеловесной Российской империи привнес ослепительную радость Ренессанса. Быть может, в «красной» советской империи, в ее северо-западном уголке, во Пскове, явилось краткое чудо Возрождения, привнесенное в железную музыку жестокого века горсткой ликующих, гениальных людей, к которым принадлежал Скобельцын.
Они вернулись живыми с самой жестокой войны, иные израненные, другие сотрясенные ужасом потерь и страданий. Вырвались опаленные из огнища, не веря в чудо спасения, обожествленные великой Победой, страстно желая восполнить бессчетные смерти, наделенные избыточно энергией павшего на войне поколения. Из окопа - в аудитории ленинградских институтов, а оттуда - во Псков, на закопченные руины церквей, на изглоданные башни монастырей и крепостей, на которых еще виднелось: «мин нет». Вся их страсть и любовь, запоздалое ожидание чуда раскрылись в работе по воссозданию храмов, среди восхитительной псковской природы. Намеленные, с блеклыми фресками стены, их живая неостывшая древность, и Ангел Победы, витавший над русской порубежной землей, возвысили этих людей, многократно умножили их таланты и знания, поместили в них светоносные силы, сделали людьми Возрождения.
Скобельцын неутомимо ходил по псковской земле, исхаживая ее, как землемер. Мерил ее вдоль и поперек длинными, не знавшими устали ногами, словно высчитывал шагами расстояние от церкви до церкви, от горы до горы, от озера до озера, отыскивая спрятанный клад, обозначенный на каком-то, ему одному ведомом чертеже. Я едва поспевал за ним. Глядел, как он шагает, увешанный аппаратами, с полевой военной сумкой, где хранились обмеры дворянской усадьбы или монастырского погоста. Видя, как я устал, он оборачивался красивым, глазастым, загорелым лицом. Белозубо хохотал, бодрил, трунил, звал в цветущее поле, на травяное ветряное городище, в красные сосняки, уверяя, что клад будет найден. И клад открывался.
Земля, по которой ходил Скобельцын, открывала ему свои сокровенные долины, ручейки, небывалые просторы, разноцветные каменья, придорожные кресты, заросшие лесом, брошенные монастыри и погосты, тускло-золотые иконостасы, шумные ливни, падающие в цветущие льны, сахарно-белые льдины, плывущие по Великой вдоль стен Мирожской обители, бесконечную красоту облаков над шатрами кремля, над крестьянскими избами, над разливами вод у Залита, когда из облака вдруг падает прозрачно-синий шатер лучей, шевелит лопастями, как Божьими перстами, словно ищет кого-то, пока не загорится ослепительно белый, на зеленой горе, псковский храм. Земля искала своего певца, своего художника - и нашла его в моем друге. И он сам, ленинградец, горожанин, уроженец иной культуры, иной имперской идеи, неустанно пылил по псковским проселкам, отдыхал на сеновалах, пил из ручьев и колодцев, покрываясь смуглым загаром, белесой пылью, тусклой сединой. С каждым походом, с каждым рисунком и фотоснимком, с каждой обмерянной и отреставрированной усадьбой и церковью становился сыном этой земли, ею самой. Питался ее тайными животворными силами, говорил ее таинственным живым языком.
Когда я смотрю на картину Рериха «Пантелеймон Целитель», писанную на мальских горах, где чудный старец идет над озером среди разноцветных трав и камней, я вижу Борю -прислонился к огромному нагретому солнцем камню, с которого вспорхнула малая бесшумная птичка.

Во Псков, полюбоваться на храмы, приезжали из других городов ревнители старины: архитекторы, писатели, студенты. Скобельцын водил их по городу, как проповедник, открывая их жаждущим, наивным душам таинство веры. Вел по Запсковью, Завеличью, увозил в Изборск и Печоры. Из его уст они слышали имена церквей, как имена псковских посадских: «Василий на горке», «Никола со Усохи», «Илья Мокрый», «Никола на городище». Он говорил о церквях, как говорят о людях, о живых, одушевленных, неповторимо-разных, со своим нравом, характером и судьбой, проживших долгий век среди озер, облаков и зеленых нагорий.
В первые годы нашей дружбы он не был религиозным. Не веровал в канонического Бога. Не трактовал храм, как образ Мироздания, вместилище Божественной идеи, чувствилище, через которое вставшие на молитву люди познают Бога Живого. Он рассматривал церковь как техническое, архитектурное сооружение. Оценивал его геометрию, конструкцию столпов и сводов, крепость замковых камней, прочность и надежность барабана, устойчивость апсид, гармонию закомар. Он видел в храме акустический прибор в виде голосников - вмурованных в стены глиняных сосудов-резонаторов, усиливающих глас поющих. Исследовал оптику храма, когда в оконца, на разных высотах, в разное время дня, проникал в церковь луч солнца - на восходе, на закате, в сияющий полдень. В подклети он искал валуны, не подверженные действию грунтовых вод и подземных ключей. В звонницах, много раз перестроенных, отыскивал первооснову, созвучную с изначальным замыслом.
Но инженер, архитектор, любивший в институте рисовать самолеты и корабли, он был художником, ощущавшим красоту храма. Чудо его появления. Божественную простоту, руко-творность. Теплоту слепленных руками стен, напоминающих беленые русские печи. Челове-коподобие - выпуклые груди апсид, округлая шея, крепкая, ладная голова, мягкие складки одежд, которые у земли соединяются с зеленой травой. Он ощущал абсолютную точность, с какой был поставлен храм, соединяющий гору, реку и небо. Необходимость, неизбежность, с какой архитекторы древности завершали сотворенный природой ландшафт.
 Он реставрировал церковь. Возвращал ей первозданный облик. Перед этим просиживал в архивах, рылся в церковных книгах, перелистывал летописи и воспоминания земских краеведов. Мерил, делал чертежи, рисовал, фотографировал, прежде чем позвать каменщиков, плотников, кровельщиков возвести вокруг развалин строительные леса и начать реставрацию. Каждая воссозданная им церковь - это Лазарь Воскрешенный, к которому прикоснулись любящие, чудодейственные руки Скобельцына. И повторяя работу своих верящих, религиозных предтеч, благоговея перед ними, перед их созданием, перед божественной природой, он, храмоздатель, испытывал религиозное благоговение перед жизнью, в которой через Истину, Красоту и Добро проявляется Божество.
Он реставрировал церковь. Возвращал ей первозданный облик. Перед этим просиживал в архивах, рылся в церковных книгах, перелистывал летописи и воспоминания земских краеведов. Мерил, делал чертежи, рисовал, фотографировал, прежде чем позвать каменщиков, плотников, кровельщиков возвести вокруг развалин строительные леса и начать реставрацию. Каждая воссозданная им церковь - это Лазарь Воскрешенный, к которому прикоснулись любящие, чудодейственные руки Скобельцына. И повторяя работу своих верящих, религиозных предтеч, благоговея перед ними, перед их созданием, перед божественной природой, он, храмоздатель, испытывал религиозное благоговение перед жизнью, в которой через Истину, Красоту и Добро проявляется Божество.
Через много лет его отпевали на старом псковском кладбище. Сквозь синий кадильный дым я смотрел на его строгое неживое лицо, на бумажный венчике поминальным напутствием, что обрамляло его холодный лоб. И было в нем странное сходство с церковной главой, по которой неведомый псковский мастер пропустил бегущую строчку орнамента.
...Не один Скобельцын был певцом и ревнителем псковской земли. Но и его друг - реставратор Всеволод Петрович Смирнов, воссоздатель кремля и Печор, отковавший медный прапор, что гремит на ветру под стенами Давмонтова города, отчеканивший образ Великомученика Корнилия, что вмурован в стену Печор, -мудрец, весельчак, труженик, своей могучей статью похожий на Покровскую башню, его любимое детище на берегу Великой. И конечно же, Гейченко- кудесник, ревнитель, поднявший из праха Михайловское и Тригорское, однорукий инвалид Великой войны, озаренный Пушкиным, как Ангел Хранитель с одним крылом, выросшим на месте оторванной руки, витавший над Соротью и городищем Воронич. И Творогов - собиратель рукописей, хранитель усадебных библиотек, знаток старины, склонявший свои пыльно-серебряные тяжелые кудри над рукописными житиями. И археолог Гроздилов, приезжавший каждое лето из Эрмитажа копать древний Псков, его полуистлевшие деревянные мостовые, полусгоревшие черные срубы, каменные фундаменты исчезнувших храмов, мечтавший, вслед за новгородцами, найти берестяную грамоту, - нашел, наконец, подслоем вековых отложений начертанное на бересте послание. И Лев Павлович Катаев - московский архитектор, друживший, как и я, со Скобельцыным и Смирновым. И ленинградский писатель Радий Погодин. И московский художник Петр Оссовский, попавший однажды на остров Залит и с тех пор по сей день рисующий его камни, кручи, лодки, небесные знамения, неведомые, встающие над островом светила, загадочные письмена, всплывающие на неоглядных водах. Сюда приезжал Лев Гумилев, войдя в псковское братство, здесь, в Пскове, проверявший свою теорию пассионарности, когда вдруг из Космоса упал прозрачный таинственный луч на обгорелые руины и унылые пепелища и явил на свет когорту неистовых, неутомимых творцов, создавших заново чудный град.
Псков тех лет был центром притяжения для всей культурной России. Всяк побывавший здесь встречался с чудом. Словно огромный голубой мотылек легко касался его крылом, и он, преображенный, уносил легчайшую пыльцу, делавшую его человеком «не от мира сего». И я, постаревший, на своем утомленном лице несу драгоценные пылинки, оставленные псковским голубым мотыльком.
Это была удивительная пора в истории Родины, когда страна, исцелившись от огромных хворей и бед, отдохнув от надрывных трудов, вдруг расширилась в высоту и глубину. Устремилась в пространственный Космос, строя космодромы, ракеты, космические корабли, научая первых своих космонавтов. И одновременно, сделав глубокий вздох, устремилась в Космос духовный, в свою историю, веру и красоту. Два эти Космоса готовились встретиться - ракеты, похожие на белые колокольни, и соборы, стремящие в лазурь свои кресты и маковки, сулили стране небывалое будущее. Гагарин, Леонов, Титов были космонавтами материальной Вселенной. Скобельцын, Смирнов, Гейченко были космонавтами духовной России. Выразители высшего смысла русской истории.
...Два друга и единомышленника, Скобельцын и Смирнов, два художника, соседи по дому, сослуживцы по реставрационным мастерским, почетные граждане города Пскова, окруженные поклонниками и поклонницами, принимавшие в оба своих дома паломников из обеих столиц, пример для творческого подражания, образец бескорыстного служения и братского единения, оба они вдруг поссорились вдрызг, так что не переносили друг друга на дух, не разговаривали, перебегали при встрече на другую сторону улицы, приходили в ярость, когда остальные друзья хотели их примирить, за глаза осыпали друг друга беспощадными, без выбора слов, упреками.
Природа этой ссоры была неясна, поводы ее были пустяшны. Быть может, она гнездилась в стремлении каждого быть единственным выразителем «псковской идеи», в единственном числе представлять ее перед миром. Двум художникам и творцам было тесно в одном городе, в одном историческом времени, и они, повторяя горький опыт предшественников, впали в желчное, изъедающее неприятие друг друга.
Мы, их друзья, горевали. Поклонники, создавшие миф о «псковской гармонии», о «райском бытие», о мудрецах и философах «псковского братства», кручинились,сетовали. Кончилась гармония, кончился Ренессанс. Наступили сумерки. Все затмили близкие неизбежные беды, надвинувшиеся на страну. Оба старились, болели, тускнели лицами, погружались вместе со всей остальной страной во мглу.

Так было угодно Кому-то, Кто вывел их живыми из кромешной войны, привел обоих во Псков, указал перстом на святые руины, простер над ними благословляющую длань, сделал творцами, счастливцами, обладателями бого-откровенных истин, а потом разлучил, разделил, поставил между ними стену повыше стены Давмонтова города, - так было угодно Судьбе, чтобы оба в одно время оказались в одной больнице, на разных этажах, сраженные одной и той же болезнью.
Боря умирал, впадал в забытье. В краткие минуты просветления тужил о незаконченной выставке, о жене и детях. Снова, усыпленный наркотиком, погружался в сумеречность, не узнавал никого. За полчаса до кончины к нему спустился Смирнов. Уселся на край кровати, глядя на бредящего, отходящего друга. На краткий миг Боря пришел в себя. Узнал Смирнова. Не имея сил говорить, протянул ему руку. Тот принял ее. Держал в ладони, пока Боря не испустил дух. Они примирились в последние минуты перед Бориной смертью, за которой следом пришел черед и Смирнова. И это тоже было угодно Богу, в этом было назидание, притча о жизни и смерти, которую мы, покуда живые, непрерывно разгадываем.
...Эпоха псковского Ренессанса кончалась вместе с другой, огромной эпохой. Два Космоса, в которых отыскивала себя страна, Космос материальной Вселенной и Космос бесконечного Духа - не встретились. Перестройка, перестраивающая рай в ад, мощь в бессилие, державу в мусорную яму истории, подходила к своему триумфальному завершению. Боря мучился физически и душевно, объясняя свой телесный недуг болезнью страны. Работал как никогда, готовил выставку за выставкой, систематизировал свой огромный фотоархив, записи, письма. «Прибирал горницу» перед тем, как уйти.
С Левой Катаевым мы приехали к нему во Псков и втроем отправились в Устье, где на круче, сияющими очами в Псковское озеро, стояла белоснежная Никольская церковь, любимое творение Бори. Длинная старая лодка лежала на берегу носом в бурьяне, ветхой кормой в голубом мелководье. Быть может, в ней много лет назад мы сидели с Борей, и я слушал сонеты Шекспира, и мимо краснолицые гребцы везли в ладьях копны зеленого сена.
Мы сели втроем в лодку. Мимо проходил случайный прохожий. Боря передал ему аппарат, попросил сделать снимок. «Ладья отплывающая» - так называю я этот снимок, где двое из нас уже уплыли в бесконечный разлив, и только я задержался, терпеливо жду перевозчика, всматриваюсь в блеск вод, где исчезли мои друзья.
Борю хоронили поздней морозной осенью на старом псковском кладбище. Гроб стоял у открытой могилы. Священник служил панихиду. Мерцала в стаканчиках поминальная водка. Боря лежал среди кипы замерзших пышных цветов, строгий, с серебряной бородой, отчужденный от нас. Внезапно, сквозь кадильный дым, песнопения, колыханье толпы, из неба прянул голубь. Слетел прямо в гроб. Встал на груди у Бори. И это было чудо, это было знамение. Продолжение притчи о Жизни и Смерти и о грядущем Воскресении. «Святой дух», - тихо сказала женщина.

Николай Рерих. Старый Псков, 1922
Через много лет я явился в Псковско-Печерский монастырь. Прошел сквозь надвратную церковь Николы, столь любимую художником Рерихом, где сейчас, в теплом сумраке, мягко пылают лампады перед образами иконописца Зенона. Спустился по брусчатке «кровавой дорогой», по которой Грозный Царь нес на руках обезглавленное тело Корнилия, обагряясь кровью, ужасаясь своему злодеянию. Монастырь поместился на дне глубокой промоины, на ручье, и стены его и башни, подымаясь на обе стороны вверх, образуют подобие могучих крыльев. Сама же птица - разноцветная, перламутровая, сидит внизу, на гнезде. Готовая взлететь, тянет к солнцу сияющие купола, волна за волной, дышит белизной, синевой, золотыми звездами, прозрачными, как лучистый дождь, крестами. Ликование, радость. Яблоки наливаются в высоком монастырском саду. По лестнице вниз спускается процессия монахов, черные клобуки, мантии, тяжелые бороды. Настоятель несет впереди золоченый потир. Шествуют, словно спускаются с небес. Погружаются в зелень густых деревьев. Исчезают, словно проходят сквозь монастырские стены в окрестные поля и леса, в бесконечность, не касаясь земли, неся перед собой золоченый лучик света.
Звонница - белый каменный великан, держит в могучих руках гремящие колокола. Монахи с земли тянут верви, раскачивают тяжелую медь. Действуют ногами, вставляя стопу в ременную петлю. Бьют руками, натягивая крученый канат. Качаются огромные, редко ухающие, кампаны. Им вторят средние, в зеленой патине, с отлитыми надписями, образами, заполняя ровным гулом промежутки грозных ударов. Часто, радостно, посылая к солнцу счастливые звоны, торопятся те, что помельче. И совсем уже малые, как бубенцы, развешенные на слегах и перекладинах, рассыпаются под ударами молоточков, коими ловко играет монах. И все это расплывается густыми волнами звука, воспаряет сочными фонтанами, летит брызгами, сыпет сверкающей пылью, повергая дух в счастливое изумление, в ликование. Молодой синеглазый монах подоткнул рясу, давит ногой в ременную петлю. Воздел к небу счастливое молодое лицо.
Из-под этих звонов, золотых куполов, солнечных ликующих деревьев вхожу в пещеры. Погружаюсь в гору, во тьму, сырость, хлад, неся перед собой тонкую робкую свечку. «Богом сданные пещеры», катакомбы первохристиан, источили гору, изъели песок, изветвились потаенными ходами.
...Перед приездом в Печоры я совершил поминальное странствие по Псковщине. Поклонился могиле Пушкина. Печально полюбовался на остатки усадьбы Кутузова. Побывал в местечке Чернушки, где Матросов кинулся грудью на дот. Проплыл на моторке у Вороньего камня, где на льду сражался с тевтонами Святой Александр...
...Псков стал иным, порубежным. Чужие дивизии вот-вот подойдут под Изборск. Страна уменьшилась, ослабела. Горемычный, тающий народ приуныл. Только Москва, как ночная танцовщица, бросает в русские сумерки разноцветное павлинье зарево, которое из провинции смотрится как сполох беды. У Москвы нет идеологии, нет заботы о России, нет слов для народа. Но они есть тут, во Пскове.
...Я стою один глубоко под землей. Свечка моя погасла. Вижу, как вдалеке, на перекрестке ходов, монах ведет богомольцев. Слышится негромкое пение. Загораются огоньки и гаснут. Кажется, под землей один за другим летят тихие светляки.
Смотрю на вереницу огоньков, протекающих в царстве пещер. Слабо озаряются лица. Крестьяне соседних селений. Богомольцы с дальних приходов. Кузнец Василий Егорович держит свечку в большой тяжелой руке. Жена его Екатерина Алексеевна с легкой птичьей походкой. Монахи, что убиты на стенах, отражая Стефана Батория. Пушкин наклонил к огоньку кудрявую голову. Князь Александр Невский в плаще и доспехах. И князь Михаил Кутузов с перевязью на правом глазу. В этой веренице, коей нет конца, среди ратников и пехотинцев вижу Александра Матросова в изорванном пулями бушлате. Вижу «красного» ополченца, разбившего наступавшее воинство кайзера. И Шестая десантная рота - строгие, истовые, с автоматами, в бинтах, в камуфляже... И мой отец, лейтенант, павший в Сталинградском сражении. Экипаж погибшего «Курска», все как один, с легким свечением лиц. И я сам, молодой, почти отрок, иду среди них, боясь загасить свечу. И ведет нас Ангел с голубыми крылами, похожий на лазурного мотылька. Лицо Ангела, прекрасное, чудное, кажется мне знакомым. Где я видел его? На рублевской «Троице»? На картине Чемабуе?..
Погибший моряк «Курска» написал в предсмертной записке: «Не надо отчаиваться».
Я не отчаиваюсь. Мне не страшно в русской святой катакомбе. Нас ведет Ангел с голубыми очами. Не в подземный Ад, а в небесный Рай, где в саду поспевают яблоки, золотятся главы соборов и звучит немолчное колокольное пение.
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.