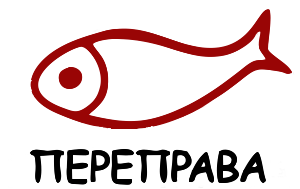(Выдержки из статьи К.Н. Леонтьева, посвященной речи Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике)
(Выдержки из статьи К.Н. Леонтьева, посвященной речи Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике)
Есть в нашем характере странная черта - иногда казаться не тем, кто мы есть. Актерствовать, играть какую-то неуклюжую выдуманную роль и часто - не одну. Особенно ярко это проявляется при общении с иностранцами. Какая-то метаморфоза происходит в нашем поведении, что-то громко щелкает в сознании - и вот мы уже источаем неестественно любвеобильные улыбки, преданно заглядываем в глаза, тщимся быть такими же раскрепощенными (а подспудно - такими же западными), как и они. И все бы ничего - и можно было бы даже с известной долей натяжки заключить, что все эти стремительные изменения - лишь следствие нашего радушия и гостеприимства. Но нет. Нас при этом охватывает цунамическое состояние какой-то необъяснимой восторженной уничиженности, тотально-засасывающего подобострастия... Интересно, что и до революции этот феномен непонятной любви давал о себе знать. О нем ярко пишет Леонтьев Константин Николаевич (1831 - 1891) - замечательный русский писатель, публицист, литературный критик.
...Как любить? Есть любовь - милосердие и есть любовь - восхищение; есть любовь моральная и любовь эстетическая... Попробуем приложить оба эти чувства к большинству современных европейцев. Что же нам-жалеть их или восхищаться ими? Как их жалеть?! Они так самоуверенны и надменны; у них так много перед нами и перед азиатцами житейских и практических преимуществ? Даже большинство бедных европейских рабочих нашего времени так горды, смелы, так не смиренны, так много думают о своем мнимом личном достоинстве, что сострадать можно им никак не по первому невольному движению, а разве по холодному размышлению, по натянутому воспоминанию о том, что им, в самом деле, может быть, в экономическом отношении тяжело. Или еще можно их жалеть «философски», то есть так, как жалеют людей ограниченных и заблуждающихся. Мне кажется, чтобы почувствовать невольный прилив к сердцу того милосердия, той нравственной любви, о которой я говорил выше, надо видеть современного европейца в каком-нибудь униженном положении: побежденным, раненым, пленным,- да и то условно. Я принимал участие в Крымской войне как военный врач. И тогда наши офицеры, даже казацкие, не позволяли нижним чинам обращаться дурно с пленными. Сами же начальствующие из нас, как известно, обращались с неприятелями даже слишком любезно - и с англичанами, и с турками, и с французами. Но разница и тут была большая. Перед турками никто блистать не думал. И по отношению к ним действительно во всей чистоте своей являлась русская доброта. Иначе было дело с французами. Эти сухие фанфароны были тогда победителями и даже в плену были очень развязны, так что по отношению к ним, напротив того, видна была жалкая и презренная сторона русского характера,- какое-то желание заявить о своей деликатности, подобострастное и тщеславное желание получить одобрение этой массы самоуверенных куаферов, про которых Герцен так хорошо сказал: «Он был не очень глуп, как большинство французов, и не очень умен, как большинство французов».
 Все это необходимо отличать, и великая разница быть ласковым с побежденным китайским мандарином или с индийским парией - или расстилаться перед французским troupier и английским моряком. По отношению к азиатам, как идолопоклонникам, так и магометанам, мы действительно являемся в подобных случаях теми добрыми самарянами, которых Христос поставил всем в пример. Относительно же европейцев эта доброта весьма подозрительного источника, и, признаюсь, я расположен ее презирать. Я вспоминаю нечто о г. Зиссермане1. В одном из своих политических обозрений г. Зиссерман, возмущаясь нашим действительно, быть может, излишним кокетством с пленными турками (из которых столь многие поступали зверски с болгарами и сербами), ставил нам в пример немцев, которые, набравши в плен такое множество французов, почти не говорили с ними и не хотели с ними вовсе общаться. Немцы прекрасно делали-с этим я согласен. Именно так надо поступать с обыкновенными французами. Милосердие к ним, в случае несчастия, должно быть сдержанное, сухое, как бы обязательное и холодно-христианское. Что касается до турок и других азиатцев, которых преходящая самоуверенность в наше время не может в понимающем человеке возбуждать негодования, а скорее какую-то жалость, то, не доходя, разумеется, до поднесения букетов и тому подобных русских глупостей, конечно, в случае унижения и несчастия, с ними следует быть поласковее. Кстати о букетах. Когда русский мещанин, солдат или мужик ведет пленных турок и, вспоминая о жесто-костях, совершенных их соотечественниками, думает про себя: «А может быть, эти турки, которых я вижу, ничего такого не делали,- за что же их оскорблять?» - то я верю в это православное русское добродушие. Я понимаю, что та сторона учения Христова, которая говорит именно о прощении, т. е. о самом высшем проявлении этой нравственной любви, дается русскому народу легче, чем какому-нибудь другому племени. Положим, и к простолюдину русскому можно здесь придраться: у одного - лень; у другого -все слабовато, в том числе и мстительность и гордость невыразительны; третий - сам не знает, что ему нужно делать; у четвертого - равнодушное отношение ко всему, кроме своих личных интересов. Но это уже тонкие психологические оттенки. И распространению христианства служили не только высокие побуждения, а всякие, ибо «сила Божия и в немощах наших познается». Но когда наш харьковский европеец или калужская француженка любезничают с унылым или угрюмым мусульманином, я впадаю в искушение... Я знаю, этот европейский Петр Иванович или эта французская Агафья Сидоровна делают это не совсем спроста: боюсь до смерти, что у них, хотя полусознательно, но мелькают в уме газеты, западное общественное мнение: «вот мы какие милые и цивилизованные!» Тогда как, по-настоящему, надо сказать себе: «Какое нам дело до того, что о нас думает Европа?» - Когда же мы это поймем?!..
Все это необходимо отличать, и великая разница быть ласковым с побежденным китайским мандарином или с индийским парией - или расстилаться перед французским troupier и английским моряком. По отношению к азиатам, как идолопоклонникам, так и магометанам, мы действительно являемся в подобных случаях теми добрыми самарянами, которых Христос поставил всем в пример. Относительно же европейцев эта доброта весьма подозрительного источника, и, признаюсь, я расположен ее презирать. Я вспоминаю нечто о г. Зиссермане1. В одном из своих политических обозрений г. Зиссерман, возмущаясь нашим действительно, быть может, излишним кокетством с пленными турками (из которых столь многие поступали зверски с болгарами и сербами), ставил нам в пример немцев, которые, набравши в плен такое множество французов, почти не говорили с ними и не хотели с ними вовсе общаться. Немцы прекрасно делали-с этим я согласен. Именно так надо поступать с обыкновенными французами. Милосердие к ним, в случае несчастия, должно быть сдержанное, сухое, как бы обязательное и холодно-христианское. Что касается до турок и других азиатцев, которых преходящая самоуверенность в наше время не может в понимающем человеке возбуждать негодования, а скорее какую-то жалость, то, не доходя, разумеется, до поднесения букетов и тому подобных русских глупостей, конечно, в случае унижения и несчастия, с ними следует быть поласковее. Кстати о букетах. Когда русский мещанин, солдат или мужик ведет пленных турок и, вспоминая о жесто-костях, совершенных их соотечественниками, думает про себя: «А может быть, эти турки, которых я вижу, ничего такого не делали,- за что же их оскорблять?» - то я верю в это православное русское добродушие. Я понимаю, что та сторона учения Христова, которая говорит именно о прощении, т. е. о самом высшем проявлении этой нравственной любви, дается русскому народу легче, чем какому-нибудь другому племени. Положим, и к простолюдину русскому можно здесь придраться: у одного - лень; у другого -все слабовато, в том числе и мстительность и гордость невыразительны; третий - сам не знает, что ему нужно делать; у четвертого - равнодушное отношение ко всему, кроме своих личных интересов. Но это уже тонкие психологические оттенки. И распространению христианства служили не только высокие побуждения, а всякие, ибо «сила Божия и в немощах наших познается». Но когда наш харьковский европеец или калужская француженка любезничают с унылым или угрюмым мусульманином, я впадаю в искушение... Я знаю, этот европейский Петр Иванович или эта французская Агафья Сидоровна делают это не совсем спроста: боюсь до смерти, что у них, хотя полусознательно, но мелькают в уме газеты, западное общественное мнение: «вот мы какие милые и цивилизованные!» Тогда как, по-настоящему, надо сказать себе: «Какое нам дело до того, что о нас думает Европа?» - Когда же мы это поймем?!..
Итак, говорю я, любовь к людям может быть прежде всего двоякая: нравственная, или сострадательная, и эстетическая, или художественная. Нередко, я сказал, они действуют смешанно... Лермонтов и другие кавказские офицеры, сражаясь против черкесов и убивая их, восхищались ими и даже нередко подражали им. Точно такое же отношение к горцам мы видим и у староверов-казаков, описанных гр. Львом Толстым. Этот же романист представил нам примеры подобных двойственных отношений русского дворянства к французам в эпоху наполеоновских войн. Черкесы эстетически нравились русским, противникам своим. Русское дворянство времен Александра I восхищалось тогдашними французами, вредя им стратегически (а следовательно, и лично) на каждом шагу...
1880г.
(Из сборника «Константин Леонтьев. Записки отшельника».
Изд. «Русская книга», 1992)
13иссерман Арнольд Львович - писатель (1824 - 1897). Состоя в гражданской службе на Кавказе, участвовал во многих военных экспедициях, исполняя, между прочим, «миссионерские» поручения, по поводу восстановления православия среди отпавших осетин. В 40-х годах становится бытописателем Кавказа и летописцем его завоевания.
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.