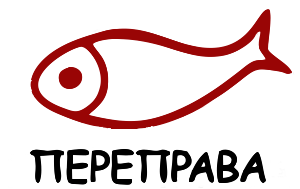В XX веке почти без взаимного соприкосновения существовало то, что говорит о «силе слова»: с одной стороны, филология как наука (стилистика – применительно к обычной речи, поэтика и риторика – применительно к речи художественной) и, с другой стороны, богословие (которое темой «силы слова» интересуется не в меньшей степени, но подходит к ней в ином плане). Впрочем, одна авторитетная филологическая концепция привлекла самое пристальное внимание богословов. Было это в Серебряный век, когда подразумеваемая концепция стала чрезвычайно популярна в литературно-художественных кругах и ее воздействие на современную словесную культуру было весьма интенсивным. Речь идет о филологической концепции А. А. Потебни.
Труды скромного харьковского профессора, скончавшегося в 1891 году, в Серебряный век заново «открыли» для себя, назвав их автора великим мыслителем, деятели русского символизма. Для их теорий, опирающихся на феномены символа, художественно-творческого синтеза – по-особому трактуемого, по-особому понимаемой стилизации и т. п., оказалось чрезвычайно близким то, как переосмыслил А. А. Потебня восходящее к античности понятие «внутренней формы». Для Потебни внутренняя форма есть нечто центральное и в языке, и в стиле художественной словесности. По Потебне, внутренняя форма, как известно, образует сложную иерархию (внутренняя форма слова – словосочетания – фразы – строфы – абзаца – главы – части... – вплоть до внутренней формы произведения как целого). Символистов в соответствии с их творческими устремлениями заинтересовал, пожалуй, более всего круг вопросов, связанных с внутренней формой слова и образного словосочетания – тропа (в особенности символа), да и вся потебнианская концепция была воспринята сквозь призму мистического символистского мировидения. Так, А.Белый в работе, в подражание знаменитому труду Потебни названной им «Мысль и язык», писал: «От лингвистики, грамматики и психологии словесных символов приходит Потебня к утверждению мистики самого слова...». На деле в работах А. А. Потебни нет прямых утверждений этого рода. Но значит ли последнее, что А. Белый совершенно произвольно приписал его концепции данную черту?
Цитированная брошюра А. Белого опубликована в 1910 году, однако еще годом ранее в «Богословском вестнике» вышла статья П. А. Флоренского «Новая книга по русской грамматике», где молодой теолог, будущий священник, тоже в восторженном тоне отзывается о концепции Потебни, называя его даже «святым от науки». Флоренский в качестве богослова отнюдь не одинок в своем внимании к слову и языку. Его старший современник святой праведный Иоанн Кронштадтский записывал в своем дневнике «Моя жизнь во Христе»:
«Словесное существо! Помни, что ты имеешь начало от слова Всетворца и в соединении (через веру) с зиждительным словом, посредством веры, сам можешь быть зиждителем вещественным и духовным».
«Помни, что в самом слове заключается возможность дела; только веру твердую надо иметь в силу слова, в его творческую способность».
Если вернуться к символистам, то их мистика опиралась именно на веру в «силу и совершимость слова» – впрочем, эта вера, что важно, символистами с их теософскими, оккультными, гностическими увлечениями извращалась в явно не христианском, а то и антихристианском духе. Такие их теоретики, как уже цитированный А. Белый или Вяч. Иванов, в своих мечтах о придании художественному символу мистических энергий предпочитают ссылаться не на христианские молитвы, а на источники совсем иного рода – на «заговоры и заклинания» языческих «жрецов и волхвов», на практику колдунов и магов. Православие, как известно, не отрицает определенной действенности колдовских словесных текстов, однако четко указывает, что «помощь» практикующему чародею приходит от злых сатанинских сил. Такая «помощь» таит огромную опасность: «Кто в каком слове упражняется, – на заре христианства писал св. Петр Дамаскин, – тот получает свойство того слова, хотя этого и не видят неопытные, как видят имеющие духовность». В православных святоотеческих текстах содержится множество примеров исполнения молитв – чудесных спасений, исцелений и т. д. (констатируем это как факт, не пытаясь вдаваться в разбор такого рода свидетельств). Обычно описывается исполнение какой-либо конкретной молитвенной просьбы, обращенной верующим к Богу. Но вот интересный случай иного рода, рассказанный в относительно недавнее время нашим православным святым епископом Игнатием Брянчаниновым, образованнейшим богословом, ярким писателем, современником Тургенева и Гоголя. Его посетил в монастыре пришедший в Россию с самого Афона монах, в котором св. Игнатий заметил «что-то особенное», а беседа с монахом обнаружила, что тот «в самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести» (то есть в сатанинском прельщении – Ю. М.). При этом, что особенно интересно, оказалось, что пришелец с Афона способен ходить в зимний мороз без теплой одежды, может почти ничего не есть, не спать и носит тяжелые вериги. Св. Игнатий рассказал тогда гостю, что проводит якобы «развлеченную жизнь» и потому сам не способен опробовать описанный Святыми Отцами особый способ молиться «со вниманием», но просит сделать так пришельца. Тот усмотрел в этой просьбе комплимент своей «святости» и охотно согласился.
И вот всего через несколько дней такой молитвы монах, подобно обычным людям, стал зябнуть на морозе, испытывать потребность в еде и сне и, ошеломленный, поспешил снять с себя и вериги. Естественно, молился он Богу о своем помиловании, а не об отнятии у своего организма всех этих «чудесных» свойств, – то есть соответствующих именно им слов не произносил. Но лишился как раз их, хотя впрямую не просил об этом и явно на это не рассчитывал.
Опять-таки не дерзая на личный комментарий приведенному свидетельству (фактическая достоверность которого несомненна), обратим внимание, что П. А. Флоренский, давая богословское объяснение силе слова, предлагал «искать и магическое средоточие слова в том же концентре его, где нашли мы средоточие лингвистическое». Напомним, что этот «концентр», эта «душа» слова есть, по Флоренскому, потебнианская внутренняя форма. Потебня не раз писал, что главное во внутренней форме, ее смысловых возможностях то, что она представляет собою образ. Образ же не сводим к улавливаемому (и то не всегда) этимологическим анализом ближайшему образному признаку слова. В образе присутствует, по Потебне, в «сгущенном», «сконденсированном» виде множество разнообразных смыслов. По роду научных интересов А. А. Потебне приходилось, как известно, помимо языка и литературы много заниматься изучением славянских языческих верований, как и текстов, используемых колдунами и волхвами, вообще древней мифологической образностью. Так, именно на труды А. А. Потебни опирается А. Блок в таком характерном своем эссе, как «Поэзия заговоров и заклинаний». Хотя сам Потебня, вопреки А. Белому (и в отличие от него, как и иных символистов), к теме «мистики слова» не обращался, оставаясь в пределах научной филологии, однако фактический материал он всегда собирал огромный. Отталкиваясь от подобных фактов, Вяч. Иванов в разгар Серебряного века напишет, что «жрецы и волхвы» знали некогда «особенное, таинственное значение» обычных слов.
Оставим, однако, этого рода материал, сосредоточив внимание на ином – на христианском понимании силы слова. Так, Никодим Святогорец пишет, что в словах молитвенных «заключен и дух молитвенный; сим же духом преисполнишься и ты, если будешь их прочитывать так, как должно, как дух какого-нибудь писателя сообщается тому, кто читает его с полным вниманием». А современный священник, о. Родион в книге «Люди и демоны» облекает обсуждение последнего семасиологического тезиса в более близкие нашему времени категории: «Такова наша природа. Фиксируя на чем-либо свое внимание, человек простирается своим биополем к данному объекту и входит с ним в контакт. Читая, например, книгу, мы невидимым образом устанавливаем связь с ее автором (даже если тот уже умер) и с тем состоянием души, в котором находился писатель в момент создания своего произведения. [...] И вот почему так вредно читать литературу, написанную страстными, неочищенными людьми, от которых человек может заразиться их страстями, и тем более – демоническую (учителей йоги, например). Через подобные тексты читатель открывается для воздействия...». Вспомнив цитированные слова св. Петра Дамаскина, можно сделать вывод, что все приведенное – как бы лейтмотив православных воззрений на данную тему. Прибавим еще суждение св. Игнатия Брянчанинова: «Если же ты позволил исписать и исчеркать скрижали души разнообразными понятиями и впечатлениями, не разбирая благоразумно и осторожно – кто писатель, что он пишет: то вычисти написанное писателями чуждыми, вычисти покаянием и отвержением всего богопротивного».
Таким образом, православное богословие не только развило по-своему стройную систему воззрений на слово, словесность, взятые с их семасиологической стороны, интересным образом сближаясь иногда с научно-филологическим отношением к проблеме (как в случае с А. А. Потебней), но и осветило в уникальном – религиозно-мистическом – аспекте тему ответственности писателя, вообще ответственности за произнесенное ли, написанное ли слово, художественное и нехудожественное. Или, еще раз прибегая к высказываниям святого праведного Иоанна Кронштадтского, «никакое слово не праздно, но имеет или должно иметь в себе свою силу, и горе празднословящим, ибо они дадут ответ за свое празднословие». Эти материи инстинктивно всегда ощущала русская литература, которая ставила вопрос об ответственности писателя (гражданской, социальной, нравственной и т. д. и т. п.), пожалуй, острее, чем какая-либо другая.
Доктор филологических наук,
профессор
Юрий МИНЕРАЛОВ
Источник изображения: www.pravmir.ru
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.