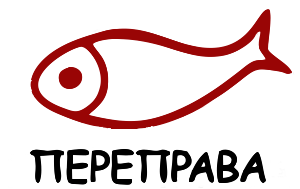Ванечка жил на Островной улице. Её названию значения он придавал мало, знал только, что это окраина дымного города, что последние дома этого невесёлого места почти сползли в Качу, как бы нехотя впадавшую в Енисей, что милиция старалась здесь не показываться, а участкового он и в глаза не видел и даже не предполагал, что такой существует. Зато чётко знал, в каком доме торгуют спиртом, в каком травой промышляют, где «ханку» готовят, а где «дурью» балуют. Время работы своеобразных горячих точек определял по зажжённому фонарю, возвышавшемуся на высоком шесте над низенькой «хатой». Покосившиеся деревянные халупки были под стать их хозяевам: обшарпанные, изъеденные временем, непонятно на чём державшиеся, они почему-то напоминали сгнившие зубы. Кое-где, правда, виднелись попытки вести огородное дело, но как-то несерьёзно и на скорую руку.
Дом Ванечки ничем не отличался от хмурого сообщества хиленьких развалюх, разве что был меньше других да ещё с чистыми занавесками, единственным, наверное, украшением сверхскромного жилища. Занавески для Ванечки были символом уюта, а уют он любил. Пусть не так чисто в комнатушке с топчаном, засаленной, обгоревшей спиральной плиткой и столом, сколоченным из необтёсанных досок, зато гордым вымпелом колышутся застиранные, латаные-перелатаные тряпицы на леске над окошком. Пусть досадно свисает лампочка с низкого потолка, зато возле крохотной печурки, под умывальником, к ведру приставлен веник в рабочем состоянии и самодельный совок. Были здесь и небольшой шкафчик для посуды, и зеркальце вполлица, и даже старенький треснутый приёмник на батарейках…
Не было у Ванечки только семьи. Потёртую лямку нескладной жизни тянул всегда один. Бывало, покрутится возле него одна, другая, да так ничего и не срастётся. Последняя, Людка, полгода голову морочила, а потом – сгинула. Пила она – ух как лихо, не каждый в их околотке так может, а у Ванечки денег-то раз – и обчёлся. Пенсия у него небольшая, вот и не хватило ей размаху: собрала кой-какие пожитки – и за дверь. Где она теперь, кто знает? Но это и к лучшему: от частых возлияний сердечко по утрам пошаливать стало. Да и кому инвалид нужен? Ноги плохо слушались Ванечку с самого детства. Ходил, всегда опираясь на две палки, уставал быстро, но никто никогда не видел его хмурым или унылым. Сядет на лавочку свою любимую, худенький, волосёнки редкие, лицо доверчивое, глаза серые с горчинкой печали – ну сама простота из сказки, и кто бы ни прошёл, всем улыбнётся, рукой помашет и обязательно головой кивнёт, весёлый такой – значит, пенсию получил недавно. Так и сидит, пока Людка в дом не затащит. А утром вздыхает только да на сожительницу поглядывает, чтоб сбегала туда, где лампочка никогда не гаснет. К вечеру опять Ванечка на лавочку, как на пост, и так до тех пор, пока финансы не кончатся. И уже в округе знали, когда можно идти занимать у него денег, а когда подождать надо до очередной «получки». И в нужное время шли и просили, а он давал и о долге не спрашивал. Потому и не обижал убогого, не наглел народ местный, а звал пятидесятитрёхлетнего инвалидушку ласково – Ванечка. Но ещё уважали его за руки мастеровые, знали, что и починит, и подправит, и возьмёт недорого, а когда и рюмашкой просто обойдётся. Одно время крепко приноровился он к «стеклорезу», но потом поостыл чуток: сердечко как-то прихватило, даже «скорую» вызывали. Понял тогда, что здоровье уже не то, побаиваться стал – многих на его веку Кондратий хватил, да и в дурмане спиртовом режут друг друга мужики и бабы, не жалеют.
Мать не помнил, отца схоронил рано, с детства по чужим мыкался, да ведь и мир не без добрых людей – дотянул-таки обречённый пенсионер до своего шестого десятка. Дотянул и дело питейное на тормоза пока поставил.
– Не тянет что-то, – говорит, – мотор отказывает.
К себе пить пускал, только просил не буянить. И отчего-то (вот уж загадка!) и вправду не буянил народ у него. Разогреются, заспорят, но не больше того. В комнате дым – хоть топор вешай, а Ванечка сидит в уголочке, о своём думает. Многие ему по пьяному делу душу свою раскрывали, плакали. Сидит инвалидушка, слушает внимательно, иногда словечко-другое вставит, а так в основном всё молча. Да и чего тут скажешь, когда душа у человека наружу лезет, выворачивается? Ведь утром проснётся, вспомнит, зыркнет, но руку не поднимет, уйдёт, только дверью хлопнет. Однако, случалось, и прилетало Ванечке. Недавно ватага молодцов гуляла неподалёку. Так вот, один из них, остекленевший, то ли укуренный, то ли уколотый, подошёл, посмотрел и, ничего не говоря, хрясь ногой по лицу – ни за что ни про что. Ванечка как сидел на скамейке, так сразу и рухнул. Парень посмотрел невидящим взглядом на упавшего инвалида и пошёл молча дальше догоняться. Хорошо, что хоть пинать не стал, а то, кроме сломанного носа, ещё и рёбрам бы досталось. Следующим утром Матвеев, сосед Ванечкин, этого оболтуса штырём железным от кровати учил почитанию старших. Матвеев-то ушлый – пятнадцать лет лагерей за три ходки – чуть сопляка по забору не размазал. Пострадавший вступился – жалко.
– Таких учить надо, – с хрипотцой бурчал защитник, вытирая о штаны содранную (видимо, о молодцовские зубы) руку. – Если кто тронет, мне говори. А пока не займёшь трёху, а?
И Ванечка занимал, по обыкновению не ожидая возврата. Не умел, да и не мог, наверно, отказывать просящим.
А ещё любил он сидеть на берегу стрелки двух рек. Узкая, мутная Кача, как бы исподтишка, по-воровски, пристраивалась к степенному Енисею, унося с собой всё то, чем могла поживиться, протекая по городу. Енисей по-отцовски принимал непутёвую дочь, прощая ей все выкрутасы, и совершенно спокойно, величаво продолжал течь дальше. Было у Ванечки любимое место среди кустов тальника. Там смастерил он небольшую скамеечку и часто сиживал на ней. Без газет, без удочки, просто молча смотрел на нескончаемый водный поток, на торчащие из воды ветки, трясущиеся в такт течению, на противоположный близкий берег. Спокойно становилось на душе, и куда-то исчезала, будто развеивалась порывом сильного ветра, вся труха этой никчёмной жизни. Особенно так сидеть, ничего не делая, нравилось ему в начале осени, когда опадает листва и затихают комарики. Тальник щедро одаривал в это время неспокойную речку своим перезревшим золотом. Жёлтые, сухие лодочки наперегонки летели к Енисею, но не каждая достигала финиша, и Ванечка загадывал на выбранный им лист. Доплывёт или нет, застрянет на полпути или всё-таки встретится с мощью свободной реки? И всем существом желал, чтобы вырвался ветхий листочек. Желал так, будто на кону стоит вся жизнь его. Потому-то, наверно, и не позволял себе Ванечка пить горькую на берегу. Дома, пожалуйста, пей, а на реке – святое. Но вот и дома опротивела эта «нарезка», и сердешко шалит, и похмелье тяжелее переносится, в общем, всё одно к одному – пора ставить точку. И тогда решил он поставить свечку. Как бы новую жизнь начать. А почему именно свечку? – и сам толком не знал.
Нашёл в столе старый алюминиевый крестик, приспособил к верёвочке и отправился на своих палочках в ближайшую церковь, благо была она неподалёку. Поставил, потоптался у икон, пошептал что-то робко и, виновато озираясь, поплёлся домой. Но где-то там, внутри, как будто хрустнуло нечто, и через некоторое время Ванечка снова переступил церковный порожек. Теперь уже с интересом и не так смущаясь. Понравилось ему здесь: тепло, пахнет приятно, всё такое необычное, светлое, да и в серую каморку возвращаться не хочется. И ещё не раз хаживал Ванечка в это место Божье. Однажды ему здесь продукты дали. Стоял он недалеко от стола, возле которого что-то красиво пел священник, размахивая кадилом, громко перечисляя чьи-то имена. На столе горели свечи, лежали приношения прихожан: булки, пряники, всевозможное печенье и тому подобное. Так вот, когда священник, закончив службу, ушёл и работницы храма стали убирать продукты в корзины, одна из них сунула Ванечке хлеб и пакет пряников. Он опешил вначале, потом, сообразив, что это ему, обрадовался несказанно. И даже не в том было дело, что не всегда ел он досыта, а тут перепало ему немного, нет, – главное заключалось в коротком, почти материнском жесте женщины в ситцевом платочке. После этого случая зачастил он в собор да всё старался стать поближе к столу этому заветному. И не зря – ещё не один раз перепадало ему, когда из рук прихожан, когда из рук работающих в храме. Соседи зашушукались, посмеиваться стали: в попы, мол, записался. А Ванечка – ничего, ходит, улыбается да всё своё крутит. Нравится ему в церкви, особенно пение. Спокойное такое, слушаешь – горечь отступает и что-то такое далёкое, родное тянется в этом негромком звучании, будто из детства мосток кто перекинул. Теперь не только занавески веселили Ванечку – иконку приобрёл. Простенькую, дешёвенькую, на картонке. Поставил на шкафчик свой самодельный и даже молиться пытаться начал. Знал он одну молитовку – «Отче наша», Людка научила. Чаще в слезах пьяных, иногда с тоски похмельной, но частенько, глядя через окошко на небо, читала наизусть она эту самую «Отче нашу». Врезались слова необычные в память инвалида и вот – пригодились. Но особенно было приятно услышать эту же самую молитву на службе. Запели её вдруг все разом, так и засиял Ванечка. Поворачивается в разные стороны, головой кивает – мол, тоже знаю, даже петь пытается.
«Ванечка, что ты делаешь?!»
«Пою», – и сияет.
А ещё сильно удивился, когда парней да девок в церкви увидал. Этого он никак не ожидал. Думал, что и не бывает так. По кустам-то летом всякого насмотрелся. Да и дома случалось. Нальют спиртяшки во флакончик и отправят погулять на часок. А тут стоит молодёжь – молится! На лица смотреть приятно. И мужиков серьёзных заприметил, и женщин ненакрашенных. Одним словом – чудно здесь всё. Чудно и радостно. И даже когда толкали и ворчали (и такое случалось), не замечал Ванечка. Стоял, опёршись на палочки, слушал да на лица поглядывал. Он даже слова узнал интересные, которых отродясь не слыхивал, «амвон», например, или «клирос». Но больше всего ему понравилось «паникадило». Важное такое, объёмное. Он и представить себе не мог, что большая церковная люстра может так называться. Паникадило. Такая строгая, серьёзная пани. Как-то замешкался Ванечка после службы и случайно услышал, как одна бабушка другой говорила – в паникадиле, мол, лампочка перегорела. И как только усмотрела? Вернулся домой новый прихожанин, глянул на свою лампу, болтающуюся над столом на огрызке провода, и назвал её ласково «панночка кадило».
Примелькался Ванечка на новом месте, узнавать его стали, головой кивнут – поприветствуют. Тётушки со швабрами и братия, что на паперти промышляет, уже искоса не смотрели. Поняли, что не очередной попрошайка и не конкурент новый объявился, а калека палочками непрочными путь новый нащупывает. И как-то раз случилось необычное. Был, как здесь называли, чистый четверг. Почему чистый, Ванечка толком не знал, слышал только, что вот-вот Пасха грянет и все идут причащаться. Народу – уйма! Вышел священник. Седенький весь, роста небольшого, бородка аккуратно подстрижена. Встал перед алтарём и начал говорить, обращаясь к прихожанам. Говорил он негромко, но каждое слово будто огнём обжигало, будто сердце превратилось в печь раскалённую, и ворочал там старый батюшка что-то кочергою железною. Всю жизнь Ванечкину никчёмную пересказал, ничего не утаил, словно в книгу смотрел какую. И вспомнилось всё то, в чём самому себе признаться стыдно. Слёзно так стало, и какой-то ком внутри зашевелился – горький-горький. А потом все двинулись к священнику, понесло туда и Ванечку. Сам не понял, как перед ним оказался, а старичок накрыл его тряпицей с крестиком вышитым и так по-доброму:
– Ну что, каешься, горемыка?
– Каюсь, каюсь, – и голову ещё ниже опустил, палки еле в руках удержал.
Священник наклонился, руку положил на затылок и прочитал молитвочку короткую, в которой только и услышал Ванечка «прощаю и разрешаю». И когда выпрямился – будто свалился с него груз неподъёмный, будто кол, в груди торчащий, выдернули одним движением умелым – так легко стало. И нет больше ни соседей, вечно пьяных, бузящих, ни молодняка шумного, ни хриплого Матвеева, ни самой хибарки покосившейся – ничего этого нет, а только иконка картонная, занавески и слова, от которых жить хочется: «Прощаю и разрешаю». Только и успел шаг в сторону сделать, не вполне осознав, что произошло, как тут же в общем потоке верующих понесло его дальше, к самому алтарю, к амвону, о котором он только слышал, но подходить ближе не решался. Священник помоложе, в полном церковном облачении, стоял с большой красивой чашей в руках на этом самом амвоне и подходившим к нему людям давал с ложечки, заботливо вкладывая содержимое в рот каждому. Ванечка уже знал – это причастие, нечто таинственное и страшное, необъяснимое и уж, конечно, не ему предназначенное. Но его несло прямо к чаше, как сухой лист тальника в лоно Енисея, будто теперь и над ним загадали: доплывёт или нет, а ему, несмотря на страх, так хотелось доплыть. И доплыл! Кто-то освободил ему руки, кто-то сложил их на груди крестообразно, кто-то поддержал, чтоб не упал, кто-то подвёл к священнику… и как будто что-то обожгло его, не снаружи, а там, внутри, глубоко. Душа ветхим листом вплыла в спокойные ровные воды, в которых свободно отражалась вся ширь молчащего спокойного неба. Теперь на сером полотне Ванечкиной жизни появился новый мазок свежей, густой краски.
Ковылял со службы тише обычного, будто с горы спускался, будто нёс чашу переполненную, боясь расплескать по дороге. Домой идти не хотелось, потому, минуя постройки и их обитателей, направился сразу к Енисею. Эх, поделиться бы с кем-нибудь пережитым, да с кем тут поделишься? Вот и пошёл на место своё любимое – реке доверять сокровенное.
А дальше и вовсе чудеса пошли. Ни больше ни меньше – устроился Ванечка на работу. Всё там же случилось, в церкви. Вернее, около неё. Закончилась служба, он к себе засобирался. Сумку через плечо перевесил и только за ограду вышел, догоняет его мужик. Прилично одетый, выбритый – и сразу в оборот:
– Слушай, ты сюда давно ходишь?
– Да так. Не то чтобы. Полгодика есть.
– Инвалид?
– Ну да.
– Не работаешь?
– Куда мне.
– Живёшь на что?
– Ну, пенсия, там… – Ванечка прищурился, спросил робко, – а дело-то в чём?
– Хочешь поработать?
Такого разворота он, конечно, не ожидал, да и не поверил, но спросил ради приличия:
– Где? Да и как? Я же, видишь, хромой как бы…
Но мужик был настроен решительно:
– Сторожем. Будешь сидеть на вахте в тёплой каморке, следить за складом. Задача – если что, давить на кнопку. Одну-единственную кнопку, – он поднял вверх палец и помахал им, будто грозил кому. – Там стол, топчан, плитка, батарея и телефон. Ночь через две. Полторы в месяц. Идёт?
Ванечке показалось, что ещё немного – и слёзы вырвутся из глаз, как ручьи по весне. Да за что же ему такое? А выбритый словно мысли читает:
– Человека мне нужно, понимаешь, человека. Надёжного. Ты вроде верующий. Я тебя здесь несколько раз примечал, приглядывался. Глаза честные. Одним словом, поверил я тебе. Вот так. Не пьёшь? – спросил уже строго.
– Не-е, – Ванечка замотал головой и похлопал по груди, – хватит. Мотор шалит.
– Вот тебе визитка. Здесь телефон и адрес. В понедельник в девять жду. Опозданий не терплю. Имя твоё как?
– Ванечка, – но тут же спохватился, – Иван то есть. Вантеев. Анатолич, – совсем спутался растерявшийся инвалид.
– Паспорт в порядке?
– Да, да, конечно.
– Ну тогда, Иван Анатольевич, до понедельника, – и, пожав руку новому работнику, директор ООО «Гарант» Малышев Геннадий Петрович – как было сказано в визитке – зашагал к ожидавшему его автомобилю.
– Это он лохов ищет, – прокомментировал Матвеев, когда Ванечка поделился с ним своей радостью. – Замутит и на тебя свесит. Не лезь лучше.
– Да что с меня взять-то, – рассеянно улыбался Ванечка. Мысли его были заняты ожиданием понедельника. – Смотри-ка, работа, – размышлял он вслух, – ему, Петя, человек нужен. Понимаешь – человек!
Матвеев только рукой махнул, вышел, криво ухмыльнувшись. А человек ещё долго сидел и смотрел на звёзды в щель между занавесками, и как-то печально смотрел на него Господь с небольшой картонной иконки.
Работа была несложная. Небольшая каморка сильно походила на Ванечкино жильё. Обещанные стол, стул, топчан, плитка – почти всё, как у него. Двери, правда, были две: одна на улицу – тяжёлая, железная с глазком, другая на двор, огороженный высоким бетонным забором. На дворе находился склад продукции этого самого ООО, охранять который теперь подвизался Ванечка. Единственное окно сторожевого поста смотрело на ворота склада, освещавшиеся мощным прожектором. В обязанности сторожа входило следить за вверенным ему хранилищем, посторонним дверь не открывать, в случае чего вызывать наряд охраны сигнальной кнопкой. Вахта длилась с восьми вечера до восьми утра. Он принимал опись и опечатанный склад под свою опеку до прихода сменщика. Все формальные процедуры приёма-сдачи-подписи Ванечка выполнял так, будто совершал некое тайнодействие. С собой брал кое-какие газетки и недавно купленный с первого аванса Новый Завет. Бдение на посту давалось легко, да и совершалось оно с крепким чаем, к которому пристрастился новоиспечённый охранник. По ночам он либо читал, либо мастерил что-то, взятое у соседей.
Весть о новом повороте в жизни инвалида моментально облетела всю округу. Заходить стали почаще, интересоваться условиями работы, зарплатой. И каждому очень подробно рассказывал Ванечка свою историю принятия на работу.
Как-то ввалился Матвеев – «подшофе».
– Привет участникам трудового фронта! Как оно? – и он развязно уселся на табуретку, поигрывая небольшой цепочкой, вытянув ноги, явно демонстрируя свои новые туфли с налипшими кусками грязи.
– Да, помаленьку, – чуть помолчав, добавил: – А ты всё режешь её, беленькую?
– А чё нам будет? – сосед махнул рукой. – Может, размокнешь? А то всё на сухую да на сухую. Не тошно? Нет? Ну, смотри, Ванюха, – потом продолжил небрежно. – Я вообще-то зашёл долг отдать. Я, брат, нынче при бабле, – Матвеев вытащил из кармана несколько смятых купюр, нашел пятьдесят рублей, бросил на стол.
Откуда деньги у неработающего соседа, Ванечка знал, и потому не хотелось ему брать лежащий перед ним полтинник.
– Петро, возьми обратно, – сказал он тихо, стараясь не смотреть на Матвеева, – они тебе нужней, а я получу скоро.
– Брезгуешь, что ли? Я не понял. Честным стал, да? – он угрожающе надвинулся на Ванечку. Положил руки на плечи. Ох, тяжело!
– Да при чём здесь это, – лепетал, оправдываясь, Ванечка, – читал я просто, что вот прощайте долги вашим должникам и…
– А ты у нас теперь грамотный. Продвинутый. Попам сколько платишь? – Матвеев теперь дышал ему прямо в лицо перегаром, в глаза смотрел, не отрываясь.
Не по себе стало от этого взгляда, запаха и тяжести рук:
– Ты не будь дурой, стяни со склада чего-нибудь и на свечку Боженьке, – и вдруг резко рассмеялся. Похлопал по шее уже легко. – Не понтуйся, бабло возьми. Хлеба купишь, коль не пьёшь, – повеселевший, поднялся с табуретки, указал на небо, прохрипел:
– Ты такой же, как и я, запомни, Ваня, – и, что-то напевая, вышел, оставив на столе засаленную купюру.
Неприятный осадок после посещения соседа держался несколько дней. Но потом как-то всё успокоилось, вошло в свою колею. Ведь Ванечка работал! И работал исправно, во всём следуя инструктажу, стараясь не подводить Петровича – так он называл про себя своего начальника, который относился к нему «со вниманием».
Словечко заветное «человека мне нужно» глубоко запало в Ванечкину душу, оттого и старался работать по-человечески, не нарушая устава.
Однажды, правда, нарушил – уже ближе к полуночи открыл Матвееву. Тот стучал в дверь и умолял и слёзно просил занять двадцатку, иначе умрёт от головной боли.
– Ты один? – спросил Ванечка, держа в руках переносную телефонную трубку. Чуть помедлив, открыл на свой риск и страх. Матвеев действительно был один, лицо перекошено от боли, глаза влажные. Ванечка протянул деньги и попросил больше никогда сюда не приходить.
– Ты пойми, меня ж уволят, если узнают, – оправдывался он. Сосед клялся и божился и даже крестом осенял себя наскоро, мол, ни ноги его, ни тела здесь больше не будет. Благодарил и плакал.
Прошло несколько месяцев, как Ванечка устроился на работу. Петрович не обижал – платил всегда вовремя. Были теперь всегда белый хлеб на столе, чай и сахар. Особых происшествий не случалось. Он действительно ощущал себя листом, плывущим по Енисею, размеренный тон которого наполнял жизнь новым ровным звучанием. Закончились мыканья по извилистой грязной Каче, и благодарил Бога Ванечка и перекрещивался теперь не смущаясь. Но стало проявляться в нём новое чувство – чувство жалости. Смотрел он на эти опухшие с перепою лица, на синяки под глазами, уродующие женщин, на загубленный водкой, травой и развратом молодняк, на весь мир этот перевёрнутый и гниющий на слиянии двух рек – и саднило сердце его, щемило до появления солёной влаги на глазах шестидесятилетнего инвалида. Уже не было жалко профуканных лет, горше было слышать шум и ругань непрекращающихся разборок, матюгов, которыми, казалось, был пропитан весь воздух.
Его по-прежнему называли Ванечкой, но теперь ещё считали и немного сдвинутым, продолжая использовать как средство занятия денег, которые никто отдавать и не собирался. Он же принял на себя роль «лоха», выслушивая весьма живописные истории об «обманутых», «кинутых», «обворованных», одним словом, обо всех остро нуждающихся в материальной помощи. В хибарке своей он появлялся редко, а про лавочку и вовсе забыл. Хмурые окна часто встречали и провожали худую фигурку, ковыляющую на работу, где открыл для себя Ванечка нечто сокровенное – тишину. Особенно нравились ему предрассветные часы, когда выходил из сторожки посмотреть, как появляется из-за спящих крыш робкое солнце.
В ту ночь – с воскресенья на понедельник – Ванечка осваивал молитвослов, пытаясь запомнить начальные молитвы. Часа в четыре опустил кипятильник в стакан, достал из пакета три кусочка сахара и ломтик белого хлеба. Расстелил газету, открыл стеклянную банку с чаем и уже приготовился его заварить, как вдруг с улицы послышался какой-то шум и тут же в дверь постучали. Ванечка глянул на тревожную кнопку, выключил кипятильник, доковылял до двери. Смотреть в глазок не стал, спросил только, кто, догадываясь, кого могло принести в такую рань.
Послышался знакомый хриплый голос:
– Открой. Это я, Петро. Ленке плохо, лекарство срочно нужно. Займи сороковник.
На душе сразу стало мутно.
– Да где ты сейчас таблетки-то купишь? – словно школьник, выкручивался Ванечка. – Может, лучше «скорую» вызвать?
– Ты чё, с дуба рухнул? Зачем «скорая», там же врачи, полис. Тут рядом аптека круглосуточная. Не тяни. Ленке хреново. Умрёт, ты же себя потом казнить будешь.
– Ты один? – всё ещё тянул сторож, непонятно на что надеясь.
– Ясен перец. Не тяни. Я только возьму, и меня уже нет. Никто не узнает. Ленку пожалей.
– Сейчас. Сейчас, – Ванечка достал из кармана деньги, отсчитал четыре десятки и отодвинул засов. И как только увидел лицо Матвеева, понял, что его обманули. А тот почти прыгнул в сторожку, по-воровски быстро огляделся, прижал Ванечку к стене. За ним, словно тени, метнулись ещё двое и тут же исчезли в проёме двери, ведущей к складу.
– Не надо, Петя! – пытался вырваться инвалид. Но куда ему против крепкого испытан-ного мужика? Тот держал его цепко, словно паук муху.
– Слушай, дурак, – хрипел он, – мы возьмём немного. Я тебя свяжу, кляп в рот засуну, в репу дам разок. Ты ничего не понял. Ты никого не знаешь. С тебя спросу никакого. На всех потом барахло раскидаем, – и смотрел в глаза Ванечке, продолжая прижимать его к стене. Страшно смотрел.
А Ванечка ещё пытался спасти. Не себя. Его, продукцию предприятия и дорогое «человек нужен», и веру свою неоперившуюся, и иконку картонную, потому что понял мгновенно, если только «да», то потеряет он всё.
– Не надо, не надо, – умолял он Матвеева. – Плохо это… Грех, – вырвалось у него.
Со стороны склада послышался лязг железа. Хватка стала ещё сильнее.
– Ну! – лопатки почти буравили стену. – Ментам нас выложишь? Подельником будешь?
 – Не буду, – только и успел выдохнуть. В глазах тут же засверкали синие точки: Матвеев резко ударил Ванечку по лицу. Инвалидушка стукнулся головой о стену, согнулся, закрывшись руками, чувствуя в ладонях солёный привкус. По-детски заслонившись, он не видел, как бывший рецидивист выхватил из кармана выкидной нож. Только и услышал Ванечка щелчок вылетевшего лезвия. Потом удар под рёбра. Боль… Ещё удар… Охнул и, не разгибаясь, рухнул на пол.
– Не буду, – только и успел выдохнуть. В глазах тут же засверкали синие точки: Матвеев резко ударил Ванечку по лицу. Инвалидушка стукнулся головой о стену, согнулся, закрывшись руками, чувствуя в ладонях солёный привкус. По-детски заслонившись, он не видел, как бывший рецидивист выхватил из кармана выкидной нож. Только и услышал Ванечка щелчок вылетевшего лезвия. Потом удар под рёбра. Боль… Ещё удар… Охнул и, не разгибаясь, рухнул на пол.
Матвеев вытер нож о кофту, висевшую на гвозде, и, не посмотрев на мёртвого человека (знал, что бил наверняка), направился к выходу. И, подходя к двери, не видел он, как бесшумно поднялся Ванечка – лёгкий-лёгкий, огляделся, увидал себя скрюченного на полу в луже крови и как-то плавно двинулся вперёд. Матвеев скрылся за дверью, а Ванечка заметил какого-то паренька, стоящего неподалёку от него, очень красивого, с длинными, до плеч, волосами, в светлой яркой одежде необычного покроя. Лицо ясное, тихое. Юноша взял его за руку и повёл за собой. Они прошли сторожку, и открылось Ванечке небо – не то сонное, полузвёздное, в тучах, а необыкновенно чистое, голубое-голубое.
Священник Виктор ТЕПЛИЦКИЙ,
Красноярск
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.