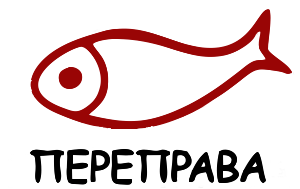Мы с Саввой Ямщиковым были близкими друзьями в начале нашей жизни, в школе, и через много– много лет, когда он стал известным всей стране искусствоведом реставратором и общественным деятелем. Всю жизнь я его знал как Славу. Когда во время нашей первой встречи в 2006 г. после долгой разлуки я спросил, как же мне теперь его звать, он ответил: «Для тебя я всю жизнь был Славой, пусть таковым и останусь». Поэтому в моих воспоминаниях пусть он будет не Саввой, не Вячеславом, а именно Славой, поскольку он вполне оправдал трудами своими это своё детское и юношеское имя, завоевав всероссийскую известность, уважение и СЛАВУ.
В предисловии к моей книге «Введение в философию ненасильственного развития» он так описывает историю нашей дружбы: «Его звонок застал меня в дороге между Псковом и Михайловским. Пятьдесят лет меня никто не называл Славой. Это при поступлении в школу вместо означенного в метрике имени Савелий поспешили перекрестить меня в Вячеслава, ссылаясь на заскорузлую патриархальность бабушки Екатерины Ивановны, так не по-советски обозвавшей меня при крещении. Знали бы ретивые учителя, что и в ЗАГСе первоначальную волю бабушки, окрестившей меня Саввой в честь новгородского подвижника преподобного Саввы Вишерского, проигнорировали, думая, что Савелий – это полное имя от Славы. Для Игоря Острецова – моего одноклассника и соседа по баракам Павелецкой набережной – я все эти долгие годы оставался Славой.
Не скрою, что тот звонок несказанно обрадовал меня и заставил на время забыть обо всех делах. Мы не виделись с Игорем с тех пор, как я поступил на искусствоведческое отделение истфака МГУ, а он – в легендарный физико-технический институт в г. Долгопрудном. В девятом классе целый год ходили мы вместе на лекции по математике и физике в университетские аудитории на Моховой, которые читали блестящие учёные. Игорь очень удивился, когда я сообщил ему о своём желании посвятить себя наукам гуманитарным, зная о моих способностях в точных науках. Но против судьбы не пойдёшь, ибо воля Бога всесильна и, как говорится, обжалованию не подлежит.
С головой окунувшись в университетскую жизнь, познакомившись с новыми друзьями, не сразу вспомнил я о павелецком своём «дружбане». А когда однажды спросил свою старшую коллегу Люду Улазову, подсказавшую мне до рогу в историки искусства, давно ли видела она нашего соседа Игорька Острецова, узнал о его засекреченности, связанной со стратегической важностью ядерной отрасли, в которой одноклассник занял с юных лет одну из ответственнейших ниш, принимая участие в разработке суперсовременных технологий. Встреча наша в Москве началась с того, что мы обнаружили полное сходство взглядов на современную действительность. Игорь, как и я, понимает чудовищную разрушающую роль либерастов-демократов, опустивших Россию до самых низших точек её пассионарного составляющего. Именно таких, как он, созидателей, бескорыстных творцов, влюблённых в свою профессию, чубайсовско-гайдаровская свора постаралась как можно быстрее уничтожить. Если в моей рабочей сфере властвовали мелкие диверсантишки, руководимые швыдкими и церетелями, то в архиважных институтах и научных центрах, возглавляемых Игорем и его коллегами, хозяйничали геростраты и жулики образца клебановых, кириенок и прочей про американской административной нечисти.
 Я узнал, что мой друг принимал самое активное участие в ликвидации последствий чернобыльской трагедии, получил сильную дозу облучения, приведшую к тяжёлому заболеванию. В то время как я с Божией помощью преодолевал свой недуг, приковавший меня к постели, врачи родной мне Сеченовской медицинской академии боролись за жизнь Игоря. С их помощью и по воле Творца тяжелейшая болезнь отступила. Мой друг за последние годы сделал так много для решения острейшей проблемы человечества – обеспечения необходимой энергией всех жителей планеты, а не только кучки хозяев денежного мешка, что заставило восхититься результатами его деятельности самых закоренелых наших «друзей» на Западе и вызвало мощнейшее сопротивление со стороны доморощенных руководителей атомной отрасли, делающих всё, чтобы не дать осуществиться и начать действовать уникальным на работкам Игоря Острецова и его коллег. Но у талантливого учёного есть немало друзей, понимающих всю значимость его открытий.
Я узнал, что мой друг принимал самое активное участие в ликвидации последствий чернобыльской трагедии, получил сильную дозу облучения, приведшую к тяжёлому заболеванию. В то время как я с Божией помощью преодолевал свой недуг, приковавший меня к постели, врачи родной мне Сеченовской медицинской академии боролись за жизнь Игоря. С их помощью и по воле Творца тяжелейшая болезнь отступила. Мой друг за последние годы сделал так много для решения острейшей проблемы человечества – обеспечения необходимой энергией всех жителей планеты, а не только кучки хозяев денежного мешка, что заставило восхититься результатами его деятельности самых закоренелых наших «друзей» на Западе и вызвало мощнейшее сопротивление со стороны доморощенных руководителей атомной отрасли, делающих всё, чтобы не дать осуществиться и начать действовать уникальным на работкам Игоря Острецова и его коллег. Но у талантливого учёного есть немало друзей, понимающих всю значимость его открытий.
Главный же помощник в многотрудном и значимом деле Игоря Острецова – Бог, в которого он бесконечно верит. Книга его «Введение в философию ненасильственного развития» не даром получила поддержку и письменное одобрение Святейшего Патриарха Алексия II. Откровения учёного заслуживают самого пристального внимания и изучения, ибо подсказывают людям самую короткую дорогу к совершенству и познанию Божественных заповедей. Заложены фундаментальные основы этой философии на нашей родной Павелецкой набережной, где мы научились любить Отечество и служить ему верой и правдой».
До школы я не знал Славу, хотя мы жили достаточно близко друг от друга. Наша улица, 3-й Павелецкий проезд, уходила перпендикулярно от Павелецкой набережной к железнодорожной станции «Москва Товарная» Павелецкой железной дороги и затем почти под девяносто градусов поворачивала в направлении Даниловского монастыря, располагавшегося на другой стороне железной дороги. В начале 3-го Павелецкого проезда, буквально в сотне метров от Москвы реки, находилась наша школа, а напротив неё пивная, хлебозавод и картонажная фабрика. Дом Славы, небольшое деревянное одноэтажное строение, был рядом с железнодорожной станцией, а наш, двухэтажный деревянный барак, подальше, на другой стороне улицы, прямо за картонажной фабрикой. Оба наши дома были построены во время войны по чрезвычайно простым технологиям. Две стенки чёрных, грязных досок, пространство между которыми для сохранения тепла засыпалось шлаком, валявшимся везде вокруг, поскольку единственной тягловой силой на железной дороге тогда были паровозы. Дом Ямщиковых был совсем маленький. Жили они там, насколько я помню, одни и поэтому теплом обеспечивали себя сами всё тем же углём, которого тоже было сколько угодно. В нашем доме была коридорная система и что-то около сорока комнат и, соответственно, семей на двух этажах. Рядом с бараком была котельная. Удобства и у нас и у Ямщиковых – во дворе. Очень неудобно, особенно зимой. Даже мы, дети, не знавшие в то время других условий жизни, ощущали это в полной мере. Зимы тогда были гораздо холоднее, чем сейчас. В общем, по современным понятиям, жили мы в трущобах. Матери работали по 12 часов в день. Отцы на фронте. Мы в детских садах. Я, например, в 44–46 м гг. после возвращения из эвакуации, когда мне было 5–6 лет, как более старший водил трёхлетнего соседа в детский сад по полотну железной дороги к Павелецкому вокзалу. Поэтому взрослели мы и начинали отвечать за себя рано. Уже в первых классах школы мы зачастую проявляли, что называется, сообразительность для обеспечения собственного выживания. Рядом с моим домом находилась площадка, на которую свозили трофейное оборудование с немецких заводов. Оно, естественно, нигде не использовалось и просто гнило под открытым небом. А недалеко от дома Ямщиковых была палатка по приёму цветных металлов. В школе нас было три близких приятеля. Были дружны, естественно, со всеми, но втроём были всегда. Мы со Славой и Юра Баринов, поступивший на год позже меня в физтех. Его, к сожалению, нет уже давно. Он умер ещё в начале 80 х. Он, как и я, окончил физтех по специальности «экспериментальная ядерная физика», но работал в Курчатовском институте по исследованию свойств различных материалов в мощных нейтронных потоках. Целыми сутками сидел на реакторе. В результате сильнейшая опухоль головного мозга. И вот мы трое лазили по трофейной свалке и добывали цветмет. В основном медь, латунь и свинец. Попадалась там и ртуть. И мы, сообразительные, натирали ртутью двухкопеечные медные монеты и старались всучить их вместо никелированных десяточек. Часто проходило. Но иногда получали по шее. Свалка охранялась солдатами. Однажды мы сидели на каком то станке и что то отворачивали. И вдруг видим – прямо к нам идёт солдат. Его решительность и злой вид не оставляли сомнений в том, что он хочет с нами сделать. В то время к родителям отводить было не принято. Их просто невозможно было застать дома. Расправа проводилась на месте. Мы буквально застыли. Деваться некуда. Он идёт и смотрит прямо на нас свирепыми глазами. Нас спасло то, что из железяки торчал какой то стержень и солдат прямо лбом врезался в него и закружился на месте. В следующую секунду нас уже там не было.
 Самым успешным мероприятием из этой серии была находка в какой то машине здоровой чушки свинца, килограмм на сорок. Произошло это где то в первых классах. Это была большая удача. За неё мы получили более пятидесяти рублей, которые мы называли «маленький Ленин» в отличие от большого, который печатался на сторублёвке. Для нас это были очень большие деньги. Ну и, естественно, гульнули. Гулять мы ходили пешком в Парк культуры и отдыха им. Горького. Это было довольно далеко. Но бесплатного проезда тогда не было. Надо было перейти через железную дорогу мимо Данилова монастыря, в котором тогда располагался какой то склад, далее мимо Даниловского рынка на Шаболовку и потом к парку. Там мы попили газировки, поели мороженого и перед возвращением решили искупаться в фонтане «Девушка с веслом», который располагался прямо рядом с главным входом в парк. После войны это было обычное дело, и никто этому не препятствовал. Стояла жара, и мы были в одних трусах. Юрка был врождённый интеллигент по духу, несмотря на то, что его отец, дядя Вася, глушил серьёзно, я – «стеснючий», а Славка решил, чтобы не мочить трусы, купаться голым. Он уже тогда на общественное мнение внимания обращал мало. Трусы он положил на ограждение фонтана. Когда мы вылезли из воды, трусов на месте не оказалось. И Славе замаячила перспектива идти через всю Москву совершенно голым. Но дело было не только в этом. В то время потерять фрагмент одежды было очень накладно, и он мог получить от матери по полной программе. Мы, естественно, предприняли грандиозные усилия по поиску трусов, пока нам не подсказали, что какие то пацаны взяли их для того, чтобы надувать их и плавать. Они зажимали их на воде со стороны отверстий, образовывалось некое подобие пузыря, и ребята, подложив его под подбородок, бултыхали ногами. Отдавать трусы они не хотели. Завязалась потасовка, но нам помогли сторонние ребята. Чувство справедливости тогда было развито. Да и Славка был здоровяк. Славка очень грустил по поводу того, что купался голый, а шёл домой всё равно в мокрых трусах. Подшучивать друг над другом у нас не было принято. Поэтому мы с Юркой ему сочувствовали.
Самым успешным мероприятием из этой серии была находка в какой то машине здоровой чушки свинца, килограмм на сорок. Произошло это где то в первых классах. Это была большая удача. За неё мы получили более пятидесяти рублей, которые мы называли «маленький Ленин» в отличие от большого, который печатался на сторублёвке. Для нас это были очень большие деньги. Ну и, естественно, гульнули. Гулять мы ходили пешком в Парк культуры и отдыха им. Горького. Это было довольно далеко. Но бесплатного проезда тогда не было. Надо было перейти через железную дорогу мимо Данилова монастыря, в котором тогда располагался какой то склад, далее мимо Даниловского рынка на Шаболовку и потом к парку. Там мы попили газировки, поели мороженого и перед возвращением решили искупаться в фонтане «Девушка с веслом», который располагался прямо рядом с главным входом в парк. После войны это было обычное дело, и никто этому не препятствовал. Стояла жара, и мы были в одних трусах. Юрка был врождённый интеллигент по духу, несмотря на то, что его отец, дядя Вася, глушил серьёзно, я – «стеснючий», а Славка решил, чтобы не мочить трусы, купаться голым. Он уже тогда на общественное мнение внимания обращал мало. Трусы он положил на ограждение фонтана. Когда мы вылезли из воды, трусов на месте не оказалось. И Славе замаячила перспектива идти через всю Москву совершенно голым. Но дело было не только в этом. В то время потерять фрагмент одежды было очень накладно, и он мог получить от матери по полной программе. Мы, естественно, предприняли грандиозные усилия по поиску трусов, пока нам не подсказали, что какие то пацаны взяли их для того, чтобы надувать их и плавать. Они зажимали их на воде со стороны отверстий, образовывалось некое подобие пузыря, и ребята, подложив его под подбородок, бултыхали ногами. Отдавать трусы они не хотели. Завязалась потасовка, но нам помогли сторонние ребята. Чувство справедливости тогда было развито. Да и Славка был здоровяк. Славка очень грустил по поводу того, что купался голый, а шёл домой всё равно в мокрых трусах. Подшучивать друг над другом у нас не было принято. Поэтому мы с Юркой ему сочувствовали.
Послевоенные годы были голодными. Есть хотелось и в детском саду, и в школе. С точки зрения самообеспечения была у нас одна замечательная операция, которая надолго обеспечила нас дополнительной едой. Тогда нам было лет по двенадцать тринадцать. Юркина хибара примыкала к забору хлебозавода. С хлебозавода потаскивали продукты через дыру рядом с участком, где стоял Юркин дом. Однажды ночью мы устроили засаду рядом с дырой, и, как только оттуда появился мешок, мы в него вцепились и подняли страшный шум. Злоумышленники бросили всё и умчались обратно на территорию хлебозавода. В мешке оказались мука и шматок масла. Дядя Вася был хозяйственный мужик. Возле его дома был сарай. Там мы спрятали добычу и, когда никого не было, жарили себе лепёшки на какой-то старой электроплитке.
Развлечений у нас было предостаточно. На свалке было много бочек с карбидом. Мы придумали забаву. Брали закрытую с одной стороны трубу, прожигали сваркой в котельной дырку в цилиндрической части около закрытого конца, и получалась натуральная пушка. Внутрь трубы клали карбид, наливали воды, начинал выделяться ацетилен. Открытую часть трубы забивали деревянной пробкой и затем поджигали спичку около маленького отверстия. Стреляло не очень далеко, но шумно. В другом варианте кусок карбида клали в лужу, накрывали его консервной банкой с несколькими отверстиями в дне и на длинной палке подносили огонь. Банка долетала до второго этажа. Но однажды кто-то из старших ребят учинил злую шутку. У нас во дворе был туповатый парень. Звали его Швейкой. Ребята, поднося огонь к банке, держали его всё время немного в стороне. Поэтому банка не взлетала. И кто-то сказал Швейке, чтобы он пошёл и посмотрел, в чём там дело. Как только он склонился над банкой, огонь поднес ли к ней, и она взлетела вверх, ударив Швейку по лицу. Хохота, рёва и кровищи было много. Но такое случалось редко. В драках было железное правило: «до первой кровянки и лежачего не бить». Злобы не было.
Никакой музыки у нас, естественно, не было. Поэтому популярен был стихотворный жанр. Хулиганские стихи типа: «Рано утром встали звери, потянулись, поп…ели и, решив, что хватит спать, все отправились гулять». И т.д. и т.п. Или: «На Арбате в детском саде раздаются голоса, такой то, такой то, отдай игрушку, а то выколю глаза». Всё это считалось нормальным детсадовским воспитанием. Ямщиков часто, но непонятно откуда, притаскивал такие штучки. Возможно, иногда творил и сам. Но тогда этим хвастаться было не принято. Моя сестрица Ирина часто пикировалась с ним и считала его весёлым трепачом. «У тебя, Славка, не поймёшь, когда ты врёшь, а когда говоришь правду», – часто повторяла она. Он вообще был остр на язык. Помнится, на какую-то шутку в свой адрес он выдал: «Что ты ржёшь, мой Буцефал, что ты свой роняешь кал?». Он придумывал очень хорошие прозвища нашим одноклассникам. Например, у нас в классе был Генка Краюшкин, большой любитель поковыряться в различных механизмах. С подачи Славы его прозвали Шпендер часовых дел мастер. Отец другого мальчишки был как то связан с Монголией. Поэтому у него иногда появлялись шмотки. Слава приклеил ему прозвище Алала – монгольский пижон. В соседних классах учились два парня с кавказской внешностью. Он их звал Гоги Мония и Дёма Гогия. Вообще гуманитарный склад ума у него проявился очень рано. Но в наше время и в нашей среде в моде были точные науки. Было начало 50 х гг. Время стремительного развития страны. И Слава в соответствии с модой вплоть до самого окончания школы тоже декларировал свою приверженность к точным наукам.
 Он умел блеснуть и произвести впечатление. Однажды мы попали на футбол между на шей и английской сборными на «Динамо». После матча английские футболисты вышли поговорить с русскими болельщиками. Слава языка, конечно, не знал. Какой язык в то время? Но он сразу подошёл к английской звезде, защитнику Билу Райту. Положил ему руку на плечо и произнёс: «Bill Right is a good player!» – и сразу стал центром всеобщего внимания. Нашлись те, кто мог как то говорить по-английски, но Ямщиков уже руководил процессом общения и был в центре событий.
Он умел блеснуть и произвести впечатление. Однажды мы попали на футбол между на шей и английской сборными на «Динамо». После матча английские футболисты вышли поговорить с русскими болельщиками. Слава языка, конечно, не знал. Какой язык в то время? Но он сразу подошёл к английской звезде, защитнику Билу Райту. Положил ему руку на плечо и произнёс: «Bill Right is a good player!» – и сразу стал центром всеобщего внимания. Нашлись те, кто мог как то говорить по-английски, но Ямщиков уже руководил процессом общения и был в центре событий.
Читали много. Школьная программа была довольно большая и разнообразная. К советской литературе относились серьёзно. Советская героика действительно вызывала восхищение. С другой стороны, мы были хорошо знакомы и с литературой, которая в то время официально не очень рекомендовалась. Был у нас в классе очаровательный мальчик, маленький, стройный как статуэтка, ни одного грубого слова. Моя мама, которая обожала поэзию Серебряного века, называла его: «Мой нежный принц с Антильских островов, мой маленький китайский колокольчик, изящный, как духи, как песенка без слов». Звали его Колюня Мецельский. Его родители, также как и мои, были из семей, про которые в то время говорили – «из бывших». Семья Колюни не эвакуировалась из Москвы во время войны и поэтому сумела со хранить очень приличную библиотеку с дореволюционными изданиями. Вот туда мы по наводке моей мамы и ныряли. Знали и про «фиолетовые руки на эмалевой стене» и что «я – адски пленительный сноб, в накидке и в галстуке красном», и с Блоком были знакомы не только по «Скифам» и «Двенадцати», но и стихотворению «Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю…». Мы действительно жили во время, когда отголоски дореволюционного ещё явственно звучали. Моя мама рассказывала нам, что, когда её семья уезжала из Уфы вместе с отступающими войсками Колчака, во дворе своего дома они зарыли столовое серебро. И мы втроём вполне серьёзно в последних классах обсуждали идею поехать в Уфу и вырыть клад, тем более что подруга мамы Лида Малецкая, дочь царского генерала, про живавшая в Казани, написала ей, что съездила в Уфу с сыном и выкопала банку с золотом и орденами отца. Но мама резко протестовала против нашей затеи. Идея, к сожалению, отпала сама собой, когда подруги мамы из Уфы прислали ей статейку из «Вечерней Уфы» о том, что во дворе их дома во время каких то ремонтных работ был обнаружен клад серебряной посуды.
В конце 50 х годов появилось огромное количество трофейных фильмов. Среди них очень интересные, такие как «Тарзан», «Королевские пираты», «Зорро», «Сети шпионажа», и др. Не далеко от нас, на Кожевнической улице, находился очень хороший Дом культуры химзавода им. Сталина. Он и сейчас стоит там. Его обычно именовали просто Циндель по имени дореволюционного хозяина завода. Там и демонстрировались все эти фильмы. Денег на кино у нас, естественно, не было. Но в Цинделе была масса самых различных кружков для детей. Мы все туда немедленно записались. Я немного музицировал на фортепьяно и занимался в студии рисования, говорили, что хорошо получалось, а Славка с моей сестрицей отправились в студию драматического искусства. Руководил этой студией В.И. Щеглов, артист драматического театра. Позже у него была эпизодическая роль в фильме «Двенадцать мгновений весны» и ещё в каких то фильмах. Сестрица со Славой блистали на сцене Цинделя. Мы все ходили смотреть их спектакли. Слава прекрасно читал «Тёркина». Поэтому многие на улице оборачивались и говорили: «Смотрите, вон идёт Тёркин». Но истинная причина нашего увлечения различными видами искусства была совсем в другом. Занятия в кружках кончались поздно. Вечерние сеансы уже начинались. Поэтому нам не надо было проходить в здание Дома культуры и предъявлять билеты. Администрация придумала, как нас отсечь от просмотрового зала. Билеты начали проверять вторично при входе в зал. И нам надо было любой ценой преодолеть этот барьер. Это были либо пути через сцену, либо на пролом через двери зала. Толпа валила и давила очень сильно, и контролерам было очень трудно сдержать наш энтузиазм. Но, если ты зазевался, они просто хватали шапку с головы и выбрасывали её обратно в фойе над напиравшей толпой, и ты вынужден был ломиться назад сквозь толпу, чтобы вернуть шапку. Зал был всегда битком, и надо было где-нибудь спрятаться, пока не погасят свет. Потом сиди хоть на полу. Во время сеанса, когда на экране возни кала какая-нибудь напряжённая пауза, какой-нибудь «оригинал» частенько для разрядки атмосферы громко выкрикивал какую-нибудь непотребную реплику. Она с тупым упорством повторялась довольно часто.
 Играли в футбол, как правило, тряпочным мячиком. Около нашего дома была здоровая, глубокая и очень грязная лужа в брошенном котловане, наверное, примерно то, что городничий называл «озером». Однажды зимой я провалился под лёд. Холод был градусов тридцать. Слава с Юрой зацепили меня каким-то крюком и вытащили. Моя шуба немедленно превратилась в панцирь. Я практически не мог двигаться. Они доволокли меня до дому, где мама натёрла меня водкой.
Играли в футбол, как правило, тряпочным мячиком. Около нашего дома была здоровая, глубокая и очень грязная лужа в брошенном котловане, наверное, примерно то, что городничий называл «озером». Однажды зимой я провалился под лёд. Холод был градусов тридцать. Слава с Юрой зацепили меня каким-то крюком и вытащили. Моя шуба немедленно превратилась в панцирь. Я практически не мог двигаться. Они доволокли меня до дому, где мама натёрла меня водкой.
Летом катались по «озеру» на неком подобии плота, а зимой на коньках. Тогда в основном были «снегурки», «гаги» и очень редко «норвежки» или в модном произношении – «ножи». Это был высший шик. Всё прикручивалось к валенкам верёвками. Любимым развлечением было зацепиться за борт грузовика железным крюком и ехать за ним по улице на коньках. Правда, часто это кончалось разбитыми носами. В хоккей играли клюшками, сделанными из железной проволоки, и шайбой – из куска доски. С горок катались на досках или на кусках льда. Хороший лёд можно было добыть на Москве реке. Она тогда замерзала по настоящему, и ледоход начинался где-то в конце апреля – начале мая, как правило, в это время на ступала жара, и мы все бегали на реку смотреть ледоход. На другом берегу Москвы реки было нефтехранилище – примерно пять шесть здоровенных цистерн. Однажды там случился грандиозный пожар. Горело так, что съехалось пол Москвы. Мы простояли там всю ночь, наблюдая это зрелище.
Когда же мы подросли, интересы наши изменились. Больше стали заниматься спортом. У нас в школе был замечательный учитель физкультуры – любимец всей женской половины школы. На фото он рядом с Ямщиковым. В школе он вёл несколько спортивных секций. В частности, баскетбольную. Слава был баскетбольной звездой. Потом мы занялись парашютным спортом и стрельбой. До прыжков с парашютом дело не дошло, но квалификации снайперов мы получили. Стреляли на полигоне на Ярославском шоссе.
С телевидением познакомились, как только начались первые опытные передачи с Шуховского центра. Мой отец после возвращения с фронта работал в ЦНИИ лубяных волокон, который располагался на одной территории с Шуховским центром. Он доставал нам билеты в просмотровый зал, и мы имели счастье наблюдать, как во время передачи выворачивались лица известных актёров из за неустойчивости первых трансляций. Например, помню, в одном из напряжённых мест «Платона Кречета» в зале раздался хохот, поскольку во время монолога его лицо было искажено так, что от смеха действительно удержаться было трудно. В театры ходили довольно часто, поскольку моя дальняя родственница, заслуженная артистка РСФСР Людмила Чернышова, снималась в кино и играла в Детском театре. Тогда этот театр размещался на Театральной площади напротив Малого. Тётя Люда давала нам билеты. Театры после войны не ломились от зрителей. Поэтому я пересмотрел весь репертуар Большого, причём часто из третьего ряда партера. Уланову видел много раз. И очаровательную прелесть «Вальса цветов» из «Щелкунчика» мы познали в лучшем исполнении в лучшем зале страны. Так что диапазон развлечений был очень широк.
 Часто на Первое мая и Седьмое ноября ходили на демонстрацию на Красную площадь обычно с коллективом завода, на котором работала моя мама. Мероприятия действительно были очень весёлые и радостные. Однажды даже, году в пятидесятом, видели Сталина. Мне вспоминается случай, когда нам, группе пацанов, доверили тащить телегу с какими то транспарантами. Она была здоровая и тяжёлая, но имела управление колёсами. Через площадь мы её протащили, а когда миновали храм и по дошли к Васильевскому спуску, Слава предложил: «Хватит её переть. Давай теперь на ней прокатимся». Мы радостно подхватили эту идею, взгромоздились на телегу и помчались вниз к мосту с дикими воплями и красными флагами над головой, выруливая мимо групп шарахавшихся от нас демонстрантов. Но милиции там уже не было. Она дежурила только на площади. Поэтому мы доехали по инерции почти до середины моста.
Часто на Первое мая и Седьмое ноября ходили на демонстрацию на Красную площадь обычно с коллективом завода, на котором работала моя мама. Мероприятия действительно были очень весёлые и радостные. Однажды даже, году в пятидесятом, видели Сталина. Мне вспоминается случай, когда нам, группе пацанов, доверили тащить телегу с какими то транспарантами. Она была здоровая и тяжёлая, но имела управление колёсами. Через площадь мы её протащили, а когда миновали храм и по дошли к Васильевскому спуску, Слава предложил: «Хватит её переть. Давай теперь на ней прокатимся». Мы радостно подхватили эту идею, взгромоздились на телегу и помчались вниз к мосту с дикими воплями и красными флагами над головой, выруливая мимо групп шарахавшихся от нас демонстрантов. Но милиции там уже не было. Она дежурила только на площади. Поэтому мы доехали по инерции почти до середины моста.
На похороны Сталина мы со Славой не пошли. В школе была линейка, и мы как лучшие ученики стояли в почётном карауле. Другие ребята ходили и потом рассказывали, что там была просто жуткая толчея. Еле вернулись живыми.
В школе мы с девочками не знались, хотя на нас поглядывали. Например, моя воздыхательница, Ирочка Елисеева из младшего класса, разместилась у меня в ногах на фотографии. Были и другие. О них я вспоминаю с теплотой и нежностью, но в школе мы были суровы по этой части. Слава в нашей школе в каких либо симпатиях замечен не был. На стороне мы были проще. На юга в школьные годы мы не ездили. Отдыхали в пионерских лагерях под Москвой. Пионерский лагерь от маминого завода выезжал в деревню Чирково-Михневского района. Там у меня образовались хорошие знакомые, и мы со Славой в последних классах туда наведывались развлечься. В нескольких километрах от Чирково, в селе Семёновское, находился дом отдыха КГБ. Там был хороший клуб. Мы туда и ходили через лес напрямик. Довольно далеко. Возвращались за полночь, и темень была жуткая. Фонариков, естественно, не было. Поэтому мы взбадривали себя весёлыми частушками, которые орали всю дорогу. Частушки были очень бодрыми и жизнерадостными, но перчёными. С нами ходили и девчонки. Они только хихикали. В Семёновском иногда на почве разногласий по поводу девиц с местными происходи ли баталии, как называл их Слава, «первые бои самцов». В Чирково были и грибы, и ягоды, и рыбалка. Рыбу мы ловили либо корзиной под корягами, либо бреднем. Удочками не пользовались. В деревне была разрушенная, по-видимому, во время войны, церковь, иконостас которой был совершенно цел. Летом 2009 года я заскочил в Чирково. Церкви уже нет. Речка, приток Лопас ни, почти пересохла. Кругом коттеджное строительство. Я рассказал об этом Славе, и он, вспомнив наши чирковские похождения, взгрустнул: «А всё-таки хорошо мы развлекались в Чирково, даже последующие юга меркнут».
В школе мы не курили никогда. Сначала не было денег, а потом осознали, что это глупость. С алкоголем познакомились поздно, только в девятом классе. Был у нас в классе Витька Зимин. Он пригласил нас на день рождения, а его мать набуровила браги. Очень тяжёлый, сладковатый напиток с массой сивушных масел. Ну, мы окосели и отравились совсем. К вечеру всем было очень плохо. Затем пробовали ещё пару раз у Юры. Энтузиазма по поводу алкоголя у нас никогда не было. Дядя Вася гнал самогон. Жутко противный. Как то мы были у Юры дома, и дядя Вася предложил нам выпить. Слава говорит: «Да не можем мы, вонючий, выворотит немедленно». А дядя Вася в ответ: «Ну что же ты хочешь. Иногда приходится по пять раз загонять туда обратно». Вот так мы и росли.
В школу мы пришли в 46 м. В четырёхэтажном здании располагалось две школы. В двух верхних этажах – № 649, для девочек, а два нижних занимала школа № 579, для мальчиков. У нас обучение было раздельным до восьмого класса. По-моему, это было хорошо. У нас не возникло никаких комплексов по поводу девочек в связи с их более ранним созреванием. Когда нас объединили в восьмом классе, многие «мужики» уже были настоящими лидерами. Я помню несколько очень ярких пацанов из нашего класса. Девчонки же все были тихие, роб кие и не смели что либо вякать в нашем присутствии. Возможно, поэтому в нашем классе не было впоследствии брачных пар. Вообще приход девочек в восьмом классе не только не по давил нас, но, наоборот, дал резкий стимул на шей активности. Это проявилось по многим направлениям. В тематических наклонностях, в спорте, в жизненной энергии. Слава проявился очень ярко и попёр, что называется, дуром. Последний десятый класс он учился не в нашей, а в другой школе, расположенной недалеко от Новоспасского моста в конце Кожевнической улицы. Это было связано с тем, что он был в очень плохих отношениях с директором нашей школы. Я не помню его полного имени, но все мы звали его просто Максим. Он был большой любитель выпить и часто забегал в пивную напротив школы. Все, естественно, это видели, но молчали. А Ямщикову нужно было больше всех, и он часто по этому поводу высказывался. Вот Максим и убрал его за «хулиганство». После окончания школы Слава явился на наш выпускной вечер с двумя девицами в белых платьях и розами в зубах. Они все вместе подошли к захмелевшему Максиму и говорили с ним как старые, чрезвычайно приятные друг другу друзья. По-видимому, Максим действительно был доволен тем, что никогда больше не будет иметь дело с Ямщиковым.
Нашей первой учительницей и классным руководителем была Нина Николаевна Синицына. Очень добрый и мягкий человек. Она преподавала нам русский и литературу, по-моему, до седьмого класса. Года на три четыре раньше нас в нашей школе до седьмого класса учился и Юрий Михайлович Лужков. Затем он перешёл в другую школу, где то в районе Мытных улиц. Я как-то услышал его воспоминания о школьных годах, в которых он также вспомнил свою первую учительницу русского языка и литературы. Это была тоже Нина Николаевна Синицына. Слава мне рассказывал, что во времена, когда на его реставрационную мастерскую, отличный старинный дом в прекрасном районе на улице Бурденко, были серьёзные наезды, он прорвался к Лужкову, и тот его спросил: «А мы с тобой в детстве не играли в футбол?». Слава подтвердил, что в детстве они были соседями. После этого территориальные претензии к помещению реставрационной мастерской прекратились.
Учились мы все трое очень хорошо. Были лучшими учениками. Четвёрки были только по русскому языку. Делали ошибки. Я, например, вплоть до десятого класса писал «будующий». Учительница в последних классах, раздавая сочинения, говорила: «У Острецова его стандартная ошибка – будующий». Увлекались содержанием и не всегда отслеживали форму. Это было характерно для всех нас. В первую очередь искали смысл. Очень редко мы получали пятёрки по сочинениям из за ошибок. Я, например, получил пять за сочинение на вступительных экзаменах в физтех только потому, что решил для надёжности, грубо говоря, использовать только слова из трёх букв, а фразы – из трёх слов, т. е. слова и фразы, в написании которых у меня не было сомнения. На экзаменах в физтех требования к сочинениям были чисто формальными, не было бы ошибок. В точных науках были лучшими. В восьмом классе к нам пришёл новый преподаватель математики. Мы его звали Мирон. Он держался очень важно и делал всё медленно, демонстрируя свою значимость. А мы к этому времени уже занимались в математических кружках при МГУ, и поэтому школьные занятия для нас были просто игрой. И вот однажды мы со Славкой договорились устроить демонстрацию. Была контрольная по математике. Мирон очень медленно писал на доске задания. Мы же в диком темпе их записывали и, пока он писал следующее, решение предыдущего успевали изложить в тетради. И вот как только Мирон завершил свою работу и медленно и очень важно подошёл к столу и сел, мы со Славой поднялись и направились к нему с готовы ми контрольными. Он недоумённо уставился на нас и спросил, чего это мы поднялись. А мы ему отвечаем, что всё готово, мы всё уже решили. Он совершенно оторопел. Но поставил нам всё-таки только по четвёрке, сославшись на небрежное оформление работы. Чем-чем, а этим мы грешили действительно часто.
Я, откровенно говоря, был уверен, что и после школы мы будем учиться вместе. Но жизнь распорядилась по-другому.
В нашем доме в комнате напротив нашей жила Люда Кузнецова, в замужестве Улазова. Она была старше нас на несколько лет, и, когда мы учились в последних классах, Людмила уже была студенткой МГУ на отделении искусствоведения. Она, видимо, почувствовала внутренние устремления Славы и часто с ним беседовала. А когда Слава перешёл в другую школу, и наше с Юрой влияние на него уменьшилось, то победили влияние Людмилы и его истинные природные склонности. Он, насколько я помню, сначала сдавал экзамены в МГИМО. Там экзамены проходили в июле, т. е. раньше, чем в других институтах. Но это был блатной институт (наверное, так же, как и сейчас), и Славе, чтобы завалить его за «незнатное» происхождение, после нескольких пятёрок влепили трояк по географии. После этого он пошёл в МГУ. Хорошего дипломата, между прочим, потеряла наша страна из за блатного идиотизма и элитарности. Все дипломаты, а тем более современные наверняка ему бы и в подмётки не годились. Когда он объявил мне, что дальше мы будем учиться раздельно, я действительно взгрустнул. Но и здесь он очень сильно повлиял на мою и Юры Баринова дальнейшую жизнь. Мы собирались поступать либо в МИФИ, либо в МГУ на физфак. Кончились выпускные экзамены и вечера. Впереди был месяц до августа. Я собирался несколько дней отдохнуть, а затем начать готовиться к августовским экзаменам. Но тут приходит ко мне Слава и говорит, что есть в городе Долгопрудном под Москвой институт, почти закрытый, никаких объявлений о нём нет, но это то, что надо. Физтех тогда действительно был практически закрытым институтом, и о нём широкой публике известно было крайне мало. Это было 28 июня. 29 го я схватил все документы и помчался в Долгопрудный. Успел их сдать в последний, третий поток. Это был последний день приёма документов. Юра раздумывал и не поехал. Поэтому он поступил только на следующий год. Экзамены, так же как и в МГИМО, начались 1 июля. Конкурс был человек десять на место. Экзаменов было семь в отличие от других вузов, и сдавали мы их через день. Я не успел толком осознать произошедшего, как к середине июля стал студентом лучшего технического вуза страны, да, пожалуй, и мира. За это я всю жизнь крайне благодарен Славе. Правда, по школе пошли слухи, что Острецов не смог поступить в институт в Москве, а только где то за городом. Но я был счастлив.
В год поступления в физтех (56 й) сломали наш барак, и все жители барака переселились в Коптево. Получилось забавно. 1 сентября я уехал в Долгопрудный с Павелецкой набережной, а вернулся в Коптево. Славин дом стоял ещё долго. Поскольку переселили нас опять в одну комнату, и в связи с тем, что занятия в физтехе были крайне напряжёнными, я практически постоянно жил в общежитии в Долгопрудном. Общежитие давали всем без каких-либо проблем. Более того, проживание в общаге приветствовалось, поскольку занятия проходили вплоть до семи-восьми вечера. Телефонов не было. Со Славой общаться стало невозможно. Это продолжалось шесть лет (в физтехе учились шесть, а не пять лет, как в остальных вузах). Затем я сразу поступил в аспирантуру физтеха и защитил кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам. Ещё три года. Потом приступил к подготовке докторской диссертации в области космоса. После защиты докторской жизнь пошла совсем сумасшедшая. Я практически не вылезал с полигонов от Плесецка (под Архангельском) до Байконура, Приозёрска (Балхаш), Семипалатинска и Куры (на Камчатке). Об успехах Славы я, конечно, слышал. Смотрел «Рублёва», слышал об открытии картин на Севере и радовался за него. В 80 м у меня произошёл крутой поворот в жизни, и я перешёл на работу в атомную промышленность. Вскоре попал в Чернобыль руководителем работ министерства. Потом началась перестройка, и я плотно задумался о жизни. Потом надолго загремел в больницу и продумал там все основные мысли книги, из которой следовало, что перестройка пошла не по тому пути. В 2002 г. первый раз издал её. Параллельно занимался новыми схемами ядерной энергетики. Откровенно говоря, я думал, что Слава, скорее всего, поддержал «демократические преобразования» в стране, поскольку так поступало большинство моих знакомых из гуманитарной сферы. С ними я жутко ругался по этому поводу. Не хотелось того же и со Славой. Но однажды мне попался номер газеты «Завтра» с его статьёй, и я вдруг увидел, что мы с ним по социальным вопросам мыслим совершенно одинаково. Наше павелецкое детство не прошло даром. Я позвонил в редакцию. Там после консультации со Славой дали мне номер его телефона, и я ему позвонил. Дальнейшее описано им в предисловии к моей книге. Последнее, четвёртое издание книги, вышло с его помощью и благословением. Во время первой встречи через пятьдесят лет я увидел только катастрофические физические изменения в нём. Как личность он абсолютно не изменился. Та же твёрдая уверенность в своих убеждениях, бескомпромиссность, прямота и склонность к лидерству. Всё, что было в детстве и юношестве. Так что настоящие люди не меняются никогда. Меняются хамелеоны и приспособленцы. Им надо подстраиваться под среду обитания. Человек в отличие от скота меняет среду под себя. Таким и был Слава.
Однажды при подготовке Славиной встречи с президентом Д.А. Медведевым я рекомендовал ему рассказать президенту такую шутку. Вопрос: «Построит ли Кириенко АЭС в Иране к 2010 г.?». Ответ: «Конечно, построит, ведь там идёт только 1734 г.». Слава плотно вошёл в проблематику современной энергетики, от которой зависит выживание человечества в XXI веке, и очень мне помогал. В подвале дома на ул. Бурденко часто собиралось, как он говорил, параллельное правительство. Там было много интересных и значимых в нашем обществе людей. К нему тянулись многие. Количество его контактов и работоспособность были просто поразительны. Правительство под его руководством действительно могло бы сделать для нашей Родины очень много.
 Он познакомил меня с массой интересных и полезных для моего дела людей и принял самое живое участие в борьбе, которую я вёл с прохвостами в моей профессии. Помогал чем мог. Мы написали с ним несколько острых совместных статей. Среди них: «Коэффициент Ку Ку» о внедряемом либералами индексе интеллекта IQ, статьи о кризисе и «Является ли философия наукой?» по поводу статьи Ф. Гиренка в газете «Завтра». Я ввёл его в свой круг общения. Например, познакомил его с академиком Д.С. Львовым, с которым подружился после того, как он познакомился с моей книгой и позвонил мне. Мы несколько раз встречались втроём и обсуждали наиболее сложные вопросы современности, в частности, вопросы религии. Дмитрий Семёнович был глубоко религиозным человеком.
Он познакомил меня с массой интересных и полезных для моего дела людей и принял самое живое участие в борьбе, которую я вёл с прохвостами в моей профессии. Помогал чем мог. Мы написали с ним несколько острых совместных статей. Среди них: «Коэффициент Ку Ку» о внедряемом либералами индексе интеллекта IQ, статьи о кризисе и «Является ли философия наукой?» по поводу статьи Ф. Гиренка в газете «Завтра». Я ввёл его в свой круг общения. Например, познакомил его с академиком Д.С. Львовым, с которым подружился после того, как он познакомился с моей книгой и позвонил мне. Мы несколько раз встречались втроём и обсуждали наиболее сложные вопросы современности, в частности, вопросы религии. Дмитрий Семёнович был глубоко религиозным человеком.
Во время учёбы в школе мы, естественно, вопросы религии не обсуждали никогда, хотя наши со Славой матери были религиозны. Но, когда мы встретились в 2006 г., неожиданно выяснилось, что мы, и он и я, пришли к Богу. Он – в результате кропотливого изучения искусства и религии, а я – от анализа устройства нашего мира и поиска целей его развития. В процессе размышлений при написании моей книги мне удалось доказать теорему весьма общего свойства о том, что наше мироздание не могло быть создано без вмешательства Высшего Разума, или, что то же, Бога Творца. Поэтому у разумного человека нет альтернативы, кроме веры в Господа Нашего. Отец Наш и Творец Всего смотрит на нас, оценивает и помогает истинно верующим в Него.
Последний раз мы виделись со Славой накануне его поездки в Псков на Бурденко. Он только что прошёл курс реабилитации в Сеченовке и уезжал на всё лето. Чувствовал себя хорошо. Договорились созваниваться в случае необходимости. Незадолго до его смерти я открыл поисковую систему «Яндекс» и вдруг увидел там фотку – иссохший стебель в лучах заходящего солнца. Эта картина неожиданно вызвала в моих мыслях эпитафию:
Иссякло тело, вознеслась душа,
Соединившись с Высшей Сутью мира,
А свет любви, блаженства и добра –
Последний вздох ушедшего Кумира.
Вскоре я понял, с чем это было связано. Савву призвал Господь.
Академик Игорь ОСТРЕЦОВ
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.