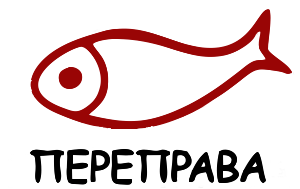«К поступлению в 1 класс осенью 1940 года папа смастерил мне (из картона и фольги) воинские доспехи и сказал:
«Ты, сынок, вступаешь в большую жизнь, иди смело, никого кроме Бога не бойся!».
И я вступил в эту жизнь и шел смело, боясь лишь нарушить Божью Заповедь о любви к ближнему.
Таким я прошел и годы войны».
Чуть раньше
Парк культуры имени Горького – любимое место отдыха москвичей в предвоенные годы. Пройтись от метро «Парк культуры» по недавно отрытому, «висящему» над Москва-рекой мосту, увидеть ещё издалека колесо обозрения, прыгающих с высокой башни парашютистов и услышать манящую музыку духовых оркестров – уже одно это было предвкушением праздника. Так было до . . . но тогда мы ходили вчетвером – папа, мама, брат и я. А сейчас мне 8 лет, на дворе начавшееся лето 1941 года и иду я в парк только с одной мамой, и не отдыхать, а помогать готовиться к войне. [Как удивительно устроена наша память: вот не помню, принимал ли я сегодня утром лекарства, а то, что видел три четверти века назад просто стоит перед глазами. Помню предновогодний номер газеты «Правда» (хотя, может, это были «Известия»), на первой полосе нарисован «Новый год» в образе мальчика, который идет по канату через пропасть, а внизу, стоят вражеские солдаты с поднятыми вверх штыками, и непонятно, дойдет мальчик до следующего года или же сорвется с каната на штыки – и тогда война!].
Уже было предчувствие грозы, чувствовали её даже мы, мальчишки-первоклашки, и во дворах играли только в войну. Никого уже не удивляло, что идет подготовка к войне, об этом все говорили, в кинотеатрах в основном шли фильмы про военных, но кто враг – мне не говорили даже родители. И вот теперь иду в составе группы самозащиты, правда не как боец, а как – даже не знаю, как назвать, мне мама лишь сказала: сам увидишь, сам поймешь, и я не стал допытываться – она командир, начальник группы самозащиты, мое дело не спрашивать, а слушаться. Роль же моя была такова. Недалеко от дома, что стоит в парке первым от Москва-реки у моста, разбивали палатку и устраивали в ней условный штаб ПВО. Около неё на учения и соревнования собирали группы самозащиты. В палатке кто-то из проводящих учение прятал на мне записку с указанием моего «ранения», а затем уводил меня куда-то в парк. Там я ждал, когда меня найдут бойцы группы самозащиты. Они выходили на поиск «раненых» после окончания воя сирены, означавшей «воздушная тревога». Найдя меня, «бойцы-санитары» производили осмотр и, обнаружив записку с описанием моих «ран», оказывали необходимую, по их мнению, помощь и на носилках уносили в штаб. Там сделанные мне перевязки оценивали на их соответствие указанным «ранениям» и давали наставления «бойцам-санитарам». И так повторялось по нескольку раз, пока не темнело. Затем объявляли, какая группа самозащиты побеждала, и называли дату новых учений.
Я из семьи медиков, и жили мы, как и все вокруг, совсем не богато. Но родители каждый год ухитрялись «снимать дачу» – комнатку с террасой в деревне около леса. Летом с нами жила мама, а по выходным приезжал отец. Хозяин нашего дома, сорокалетний портной, страдал тяжелой астмой, а мой отец, прекрасный терапевт, успешно его лечил. Мы сдружились с этой семьей, хозяйка, Александра Степановна Раззорёнова, и моя мама стали как сестры, её сын был ровесником моего брата, им было по 17 лет, а хозяйская дочь Лиза – чуть старше меня. Мама моя уже с конца гражданской войны работала воспитателем, а затем директором «спецдетдома» для детей революционной элиты, которой некогда было заниматься воспитанием своих отпрысков и их помещали в специально созданные детские учреждения с прекрасным обеспечением. Там мама приобрела опыт работы с детьми и подростками разного нравственного воспитания и здесь, на даче, она сумела быстро организовывать мальчишек и девчонок с нашей улицы и детей других дачников для совместных игр, самодеятельных спектаклей. Я помню, что на такие спектакли приходили совершенно незнакомые мне взрослые. Было всё это в деревне Крюково, примерно в километре от станции Крюково Октябрьской железной дороги (теперь там город).
В этой деревне у этих хозяев мы жили с 1936 года, нашу семью знала, наверное, вся улица. Мама проводила с соседскими детьми интересные занятия, отец был прекрасным городошником, и посмотреть на эти игры в городки собиралось много народа. Кроме того, отец никогда и никому не отказывал в медицинской помощи, он был уважаемым врачом. Знали отца и как любителя-астронома. Он смастерил телескоп, и в ясные вечера у нас во дворе собиралась очередь из желающих посмотреть на Луну, на планеты. Отец знал названия всех созвездий, и рассказывал о них с таким увлечением, что его слушали с интересом не только мальчишки-подростки, но и их родители. С тех пор для меня звездное небо – это вселенная, наполненная таинственной красотой и идущей из глубин космоса мудростью, отец научил меня чувствовать её и общаться с ней. И ещё из дачных предвоенных уроков. Отец знал голоса всех птиц, названия травинок, имена букашек-таракашек, откуда у него такая любовь к природе – я знаю (наверное, потому, что он христианин), но откуда такие знания – так для меня и осталось загадкой. Я не сумел перенять эти знания, но вот умение общаться с уважением с травушкой-муравушкой, букашкой-таракашкой я перенял, и это очень помогало мне в трудных ситуациях моей большой жизни.
Началось
Я любил ходить на маленький прудок на нашей улице, бывал там обычно один, хотя иногда кто-то приходил половить рыбку. Я же удочку не брал, мне нравилось просто посидеть на берегу, поговорить с лягушкой-квакушкой, с жучком-паучком. И вот 22 июня 1941 года я иду, как обычно, к своему прудку, но вдруг вижу: у околицы одного из домов стоит толпа, женщины плачут, мужчины серьезно насупились, а из черной тарелки-репродуктора, которой раньше здесь не было, взволнованный мужской голос говорит о вероломном, без объявления войны, нападении на нашу страну фашистов. Так вот, кто наш враг, теперь всё ясно. Я скорее домой, ещё не понимая всего ужаса случившегося, с какой-то приподнятостью кричу: «Война, война началась!». Какая была реакция взрослых, я не помню, но мама сказала: надо собираться в Москву. Александра Степановна уговорила моих родителей оставить меня и брата в Крюково под её крылом пока не прояснится обстановка.
Так и сделали, что было правильно. Через месяц немцы начали бомбить Москву. Их самолеты пролетали над нами, и когда они возвращались, в той стороне, где была Москва, разливалось зарево. Зарево стояло до утра, и казалось, что Москва просто горит. Иногда приезжал к нам кто-то из родителей, привозили продукты, было ясно, что в Крюково безопаснее, чем в Москве, тем более, что хозяин около своего дома вырыл ущелье, в котором мы прятались, когда над нами пролетали самолеты. Так и решили: жить мне с братом в Крюково, по крайней мере, до начала учебного года. Поскольку отца призвали в войска ПВО, а мама тоже оказалась привязанной к объектам самозащиты и должна была вернуться на работу, то для контакта оставался брат: он ежедневно ездил в Москву узнать все ли в порядке. Как-то брат не вернулся в обычное время. Я видел, что Александра Степановна буквально сходит с ума, я не понимал опасности этой задержки, но она, видимо, что-то знала и как-то по-матерински хотела меня утешить. Я вдруг почувствовал это тепло по сути посторонней женщины и понял, что в беде меня одного не оставят, и это стало первым уроком того, что мир не без добрых людей (сколько раз жизнь это подтверждала!). Как потом оказалось, был разбомблен дом моей крестной матери, тети Шуры, и бабушки по лини мамы. Они жили в Староконюшенном переулке (теперь в этом доме посольство Канады). От дома осталась только двухэтажная коробка с выбитыми оконными рамами. К счастью, никого из моих родных не было дома, бабушка и двоюродный брат Юра были на даче, на Сходне, а тетя Шура на работе. Никто не пострадал, однако они остались буквально на улице. Мой брат поехал с тетей Шурой к развалинам её дома на Староконюшенном. На дне коробки, оставшейся от разбомбленного дома, можно было найти вилки-ложки, кастрюли, подушки и другую утварь. Нашли даже несколько оловянных солдатиков моего двоюродного брата. Хорошо, что дом был только двухэтажным, и завал не был большим. Искали остатки скарба до темноты, найденное отвезли к нам домой, и брат поехал ко мне в Крюково. Но на этом беды не кончились. В этот же день в железнодорожный мост через канал Москва-Волга между Химками и Москвой попала бомба, она пробила мост между путями, но не взорвалась, однако движение поездов было надолго приостановлено. Брат смог вернуться только к ночи. Эта его задержка тоже стала уроком: не надо сразу думать о самом плохом, причины всех событий могут быть разными и неожиданными.
Июль-август пролетели быстро. Сначала о войне напоминали только самолеты, пролетавшие мимо нас бомбить Москву. В ясные августовские звездные ночи мне до слез было обидно, что через те созвездия, различать которые меня научил отец, ползут высвечиваемые прожекторами как злобные букашки немецкие самолеты. Но к концу лета мы почувствовали весь ужас войны: пришла первая похоронка на нашу улицу. Помню, как у дома соседей, к которым пришла эта черная весть, собрался народ. В начале лета, ещё до войны, на нашей улице праздновали сразу две свадьбы. Два приятеля, Костя и Сережа, отслужили срочную военную службу и вернулись к своим Катюшам (так, как в самой популярной в то время песне, звали их невест). Эта совместная свадьба была яркой, на ней гуляла, наверное, вся наша улица, пестрые наряды, гармошка, пение, пляски. И вот теперь, через какие-то два месяца, на том же месте у Костина дома черные платочки, громкие рыдания, и вся улица приходит к дому утешить молодую вдову. Как же скоротечно счастье, как быстро происходит непоправимое! – меня это событие потрясло своей жестокой реальностью и несправедливостью, это стало первым жестким уроком военного лихолетья. И ещё, вскоре в другой дом на нашей улице, где были сыграны две предвоенные свадьбы, вернулся без ноги Сергей. Этот парень и до фронта-то не доехал: под Смоленском идущий на передовую эшелон попал под бомбежку. Я помнил Сергея как отличного игрока в городки (а играли в них на нашей улице каждый выходной). Казалось бы, какое большое горе – крепкий, красивый, недавно женился – и вот стал безногим инвалидом. Но здесь слез не было, молодая жена всё говорила: «Господи, как хорошо, вернулся домой живым». Я видел её настоящее счастье, она часто повторяла соседкам: «Сережка живой, он со мной, лучше потерять ногу, чем получить похоронку». И шла утешать подружку Катю, у которой погиб муж.
Как же всё относительно! Это стало вторым уроком жизни, полученным мной в начавшейся войне, он явственно показал, что данное плохое – может быть не самым плохим. [Конечно, уроки жизни, полученные мной в годы войны – это уроки начальной школы. Но при всей их, казалось бы, очевидности они не пропали и явились той основой моего развития, без которой оно не смогло бы состояться. Трагедия стать инвалидом в рассвете лет – ничто по сравнению со смертью в этом возрасте. Но и смерть не является худшим, что может случиться в судьбе человека: в трагических ситуациях он иногда молит Бога о своей смерти и всячески пытается её осуществить. В этом я смог убедиться много позже, изучая проблемы эвтаназии]
Подходил сентябрь, надо было ехать в Москву и собираться в школу, а главное – фронт приближался к Москве, поезда до неё стали ходить нерегулярно, еще несколько раз бомбили железнодорожный мост через канал Москва-Волга в Химках, и вообще становилось как-то мрачно. Если раньше на дачный сезон родители домашнюю утварь возили каким-то транспортом, в первые годы на извозчике, а позже на полуторке (так именовали появившиеся грузовички), то теперь об этом нельзя было и мечтать. Пришлось маме, брату и мне тащить на себе в Москву только самое необходимое, а остальное оставить у хозяина, он из-за сильной астмы мобилизации не подлежал и обещал всё сохранить.
Я всё лето пробыл на даче и, вернувшись в Москву, заметил много перемен. Первое, что меня удивило – это то, что на улицах стало много военных и мало гражданских, часто несли большие зеленые баллоны для аэростатов воздушного заграждения, их держали по четыре человека с каждой стороны, видимо, чтобы баллон не улетел. На улицах возводили баррикады и строили укрепления. Сваривали противотанковые «ежи». Было трудно узнать Большой театр, так его «загримировали» под обычные дома.
У нас во дворе (а мы жили в Уланском переулке, что расположен параллельно улице Сретенка) из большой ватаги ребят осталось только трое, остальные были эвакуированы. В моей школе № 281, где я закончил первый класс, разместился госпиталь, и дальше учиться можно было только в бомбоубежище в Даевом переулке (что было не совсем близко от нас). Недели две-три продолжались уроки в этой «школе», ребят становилось все меньше, и когда нас осталось человек 10, школу распустили. Больше учиться было негде, так у меня пропал учебный год. Ребят становилось меньше потому, что был приказ об их эвакуации. Только благодаря хлопотам мамы, которая была начальником самозащиты наших домов по Уланскому переулку, меня не отправили в какой-то детский дом на Востоке. Выходить за пределы нашего региона было опасно, мальчишек моего возраста задерживали и отводили в эвакопункт.
Мама не хотела меня отдавать для эвакуации, она боялась меня потерять в суматохе, которая тогда творилась на железной дороге из-за бомбежек, ну и, конечно, из-за полной неизвестности – куда отвезут, где и с кем буду жить. Родственников нигде, кроме как в Москве, у нас не было. Она хотела, чтобы я был при ней. Даже не уводила меня в бомбоубежище при объявлении воздушной тревоги. Во-первых, в это время она должна была заступить на свой пост в штабе самозащиты, а не прятаться со мной в бомбоубежище. А во-вторых, она уже знала, что наше бомбоубежище (дом № 4 по Уланскому переулку – он и сейчас стоит) прямого удара фугасной бомбы не выдержит, раз уже было пробито авиабомбой перекрытие тоннеля метро на перегоне между станциями Смоленская — Арбат. Мы же жили на первом этаже 4-этажного корпуса дома № 7, и от зажигательных бомб и осколков от зениток были достаточно защищены.
Во время воздушных тревог брат, как боец группы самозащиты, должен был быть на крыше нашего дома и следить за обстановкой во дворе. На крыше и чердаке стояли железные бочки с водой и ящики с песком и лежали большие, как печной ухват, щипцы. При падении зажигательной бомбы надо было схватить её этими щипцами – и в бочку, а зимой – в ящик с песком. Бомбы падали, ребята ловко их хватали и тушили. Хоть я раза два-три залезал по пожарной лестнице на крышу, но стать героем не смог, к щипцам меня не допускали и ограничивали моё участие в обороне Москвы ролью связного: я должен был бежать в штаб и сообщать, где упала бомба. Когда сидели на крыше, следили, как лучи прожекторов «вели» немецкие самолеты, как сброшенные с них световые ракеты медленно спускались в темный город, под конец налета всегда видели с той или другой стороны зарево. Конечно, очень необычно, как какие-то фантастичные рыбы, выглядели в небе зависшие серебристые аэростаты – они не украшали небо, а наоборот, делали его чужим, зловещим и казалось, что они заслоняют звезды. Когда начались холода и стало скользко, мама категорически запретила мне залезать на крышу и велела брату следить за мной.
В Москве строго соблюдалась светомаскировка. В начале войны сразу после объявления: «Граждане! Воздушная тревога» в домах отключалось электричество. При керосиновых лампах, свечах, карманных фонариках ожидали радиооповещения о прекращении воздушной тревоги. В промежутке между объявлением воздушной тревоги и командой «Отбой» каких-либо передач по радио не было, однако электропитание в радиосети не отключали, что было слышно по какому-то фону. Уж не помню, как скоро я догадался подсоединять к этому радиоэлектропитанию лампочку от карманного фонарика – и горело! Читать при таком освещении было нельзя, но что-то мастерить – можно. Лампочка начинала мигать, когда раздавался голос: «Отбой», но я уже мог её отсоединить, поскольку давали свет. Не скрою, я тогда сказал себе: «Ай да Федя, молодец!», сколько я дел переделал под этим «радиосветом». Это мое изобретение тоже стало уроком – не надо быть пассивным в трудных ситуациях.
В нашем доме № 7 был большой двор. До войны на спортивной площадке двора играли то в волейбол, то в футбол, то в казаки-разбойники, «двенадцать палочек», в городки. А теперь здесь начали обучать ополченцев: «Смирно!», «Налево!», «Направо!», «Шагом марш!», «Равняйся!», «На плечо!» – эти команды звучали с утра до вечера, одновременно на учениях бывало человек по сорок – и так по несколько смен за день. Я, конечно, не мог упустить возможность освоить строевую подготовку и регулярно выходил на занятия со своей большой игрушечной винтовкой. Командир меня заприметил, не прогонял, но сказал мне по секрету, что на передовой эта муштра не пригодится, хотя и похвалил меня за успехи. Он уже успел побывать на фронте, был ранен и ходил с подвешенной на косынке рукой. Так или иначе, я получил урок строевой подготовки.
Конечно, я помню длинные, десятиметровые и много больше очереди в булочную, что была в доме № 5. Чтобы хлеб достался надо, чтобы его еще хватило в магазине при такой очереди, поэтому очередь надо было занимать с утра, сразу по окончании действия комендантского часа. Очередь была часов на пять, так долго, наверно, потому, что очень тщательно проверяли хлебные карточки и взвешивали те кусочки хлеба, что по ним полагались. В этих очередях я познал цену хлеба. Помню молодую женщину, у которой, пока она вчера стояла в очереди, украли сумочку с продовольственными карточками, а месяц (октябрь) только начинался, и до ноября у неё не было ничего для приобретения пищи. Как она плакала об умирающей от голода дочери, и от того, что у неё самой уже мутит в голове, и она не дойдет до дома. Она думала, что сумочку просто потеряла, и, может быть, кто-то её вчера нашел – ведь люди в очереди каждый день одни и те же. И всё ходила вдоль очереди, спрашивая, не нашел ли кто её сумочку. Её надежды, конечно, были нелепы, но как же больно вспоминать об этом даже спустя столько десятилетий! Наверное, это был для меня военный урок сопереживания чужому горю.
И еще о цене хлеба, но уже как философский урок об относительности всех ценностей. У мамы была крестная мать – вдова одного из крупнейших фабрикантов Москвы. Ее муж имел большую кондитерскую фабрику, но умер весной 1917 года. Вдова не хотела и не умела продолжить дело мужа, фабрика ей была не нужна, а детей у них не было. Она решила продать фабрику, считая, что так будет спокойнее, к тому же уже начались революционные беспорядки. Она продала эту фабрику за золото, бриллианты и другие драгоценные камни, которые сложила в большую фирменную (в память о кондитерской фабрике) жестяную банку (я видел такие банки литра на 3-4 у мамы – они были красные с тиснениями, на которых золотыми красками были выписаны герб и имя фабриканта). Перед войной крестная стала слепнуть и нуждаться в уходе. Мама договорилась с её соседкой, чтобы та присматривала за ней, а сама раз в неделю брала меня и мы её навещали. Я в детский сад не ходил и поэтому всегда был с мамой, и пока мама покупала продукты, готовила, мыла её, мне приходилось сидеть в садике под окном маминой крестной. Как-то, возвращаясь от неё домой, мама мне поведала, что её крестная мать показала дерево в садике у её окна, под котором она ночью закопала эту жестяную банку с драгоценностями, и сказала маме, чтобы она достала её и взяла себе. Мама, конечно, не стала искать эту банку: если бы она её нашла и забрала, то её бы расстреляли за хранение таких ценностей – такие тогда были законы. Я помню это дерево во дворе дома в Большом Дровяном переулке, но тоже никогда не имел помыслов откопать эти сокровища. Где-то в ноябре к маме пришла соседка её крестной и сказала, что та умерла с голода, и её тело увезли на «общее захоронение», поскольку родственников у неё не нашлось. Эта соседка спросила маму, нет ли картофельной кожуры или чего еще, что можно съесть, а то голова кружится от голода. Пока мама на кухне варила ей кашу из остатков крупы, я с ней был в другой комнате и вдруг заметил, как она резко побледнела, прислонилась к стене и сползла на пол. Я закричал маме, она тут же прибежала, пыталась помочь, но сказала, что уже поздно – пульса нет. Приехала «скорая» (часа через два), отругала маму, сказала, «зачем вызывать к трупу» и велела вызвать милицию, чтобы его забрали. Эта смерть у меня на глазах была первой, мы только что разговаривали с соседкой, она ещё рассказывала про смерть маминой крестной от голода, и вот сама . . . . Крестная, как не имевшая трудового стажа, никаких продовольственных карточек не получала, и её смерть от голода буквально в двух шагах от собственного золота и бриллиантов заставили меня подумать о том, как всё в жизни и просто и сложно: только что разговаривал с человеком и вдруг это уже труп; казалось бы, есть колоссальное состояние и рядом с ним смерть от голода… Я тогда еще не понимал, что это были мои уроки на тему об относительности ценностей в нашей жизни.
16 октября 1941 года – самый странный и страшный день военного лихолетья. То был мрачный день с мокрым, липким снегом. Булочная была закрыта, и мне не надо было стоять в длинной очереди. Я пошел на двор – никого из ребят, ни старше, ни младше – нет. Стал катать снежную бабу и вдруг заметил, что падающий снег – серый, и вместе со снежинками с неба сыпет пепел. Что это такое – спросить не у кого, двор пустой. Выглянул из-под подворотни в переулок – и там никого. Странно. Пошел к метро «Кировская» (ныне «Чистые пруды»). Я знал, что вход в метро закрыт, на станции разместилось какое-то военное руководство, но около метро были магазины, в которых мы покупали продукты. Магазины оказались закрытыми, но откуда-то из задних дверей магазинов выходили люди с мешками на плечах. Тоже странно. А воздух на Кировской улице (ныне Мясницкой) все более становился серым, кто-то сказал: жгут документы. Иногда проезжали троллейбусы в сторону вокзальной площади, и они были настолько переполнены – люди висели даже на задних бамперах, что было трудно понять, как он ещё тянет. И ни одного милиционера, ни одного военного. И это как-то странно. Я пошел на Комсомольскую площадь, к трем вокзалам. У Казанского вокзала огромная толпа, валяются какие-то свертки, чемоданы, ковры, закрученные в рулоны, все это на растоптанном сером снегу, и вещи никто не подбирает. Народ какой-то, как мне показалось, ошалелый, кто рыдает, кто кричит, а кто и дерется, и здесь ни одного милиционера. Из каких-то слов окружающих я понял, что немцы прорвали фронт, Москва беззащитна, власти в городе нет, надо бежать на восток. Всё это, конечно, странно, и я поспешил домой. Мамы дома не было, рассказал бабушке обо всем увиденным, она же ответила: «Да, Федюша, это война, но ты не бойся – Бог нас сохранит, однако больше не ходи один, тебя могли забрать и отправить в эвакуацию». На следующий день снег уже не шел, но с неба продолжал сыпать пепел. Булочную всё ещё не открывали, однако у её дверей собирались люди, устанавливали очередь и говорили, что хлеб привезут. Мне на ладошке записали номер в очереди, и я побежал за карточками и деньгами и снова встал в очередь. Народ был какой-то неразговорчивый, мрачный. Но я понял, что ночью в городе было безвластье, грабежи магазинов, какая-то стрельба, но теперь порядок восстановили. Странно, что в эту ночь не было бомбежки – единственная хорошая странность. Вскоре в Москве было объявлено осадное положение.
А в целом бомбежки продолжались, немцы прилетали настолько точно в одно и то же время, что можно было по объявлению воздушной тревоги проверять часы. К этому времени я про запас наливал из крана воду, потому что её нередко тоже отключали при бомбежках. В один из таких вечеров я спокойно наполнял ведро, как вдруг так шарахнуло, что ведро выскочило из моих рук. Хотя воздушную тревогу ещё не объявляли, было ясно, что это налет. Потом говорили, что на Старую площадь, буквально перед зданием ЦК ВКП(б) была сброшена «торпеда». Во всех домах по обе стороны Ильинского сквера, на площади Ногина (Варварки) выбиты оконные рамы. Поврежден был даже Политехнический музей. Так было только один раз, простые же фугасы не были редкостью. Около нас падали бомбы на Сретенском бульваре, на Чистых прудах перед кинотеатром Колизей (ныне театр «Современник»). Особо запомнилась бомба, упавшая на Кировской улице перед стеклянным домом архитектора Ле Корбюзье: были буквально горы битого стекла и с этих гор можно было бы съезжать на санках. Это только вокруг нашего дома, но в целом разрушенных домов было много, особенно вокруг Кремля, у больших заводов. Разбомбленные дома обычно довольно быстро разбирали, но пустую коробку театра имени Вахтангова на Арбате сохранили и как-то обложили кирпичной стеной. Многие скверики, которые теперь украшают Москву (например, на Мясницкой улице, на Никольской) были оборудованы на месте уничтоженных домов.
Зима 1941-го – 1942-го годов была исключительно морозной. У жильцов тех домов, где было печное топление, возникли проблемы с дровами, дровяные склады не работали, и под отопление пошел штакетник от заборов и вообще все, что горит, разобрали даже сараи для хранения дров и деревянные двери в подъездах. Для экономии вместо голландских печей устанавливали печки-буржуйки, моей обязанностью было напилить дрова и растопить печку. В нашей квартире не было проблем с топливом. С начала войны отец стал служить в медслужбе ПВО, он там как-то сумел договориться, и нам по ночам после бомбежек иногда привозили деревянные балки перекрытий от разрушенных домов. Нужно было их напилить под размер буржуйки и отнести домой пока было темно и никто не видит. Сколько мы с мамой напилили этих дров при лунном свете и даже в полной темноте – аж сейчас помню, как болели руки.
Зима для москвичей в первый год войны была наиболее тяжелой – голод с холодом были нежданным испытанием, к которому нужно было еще как-то приспособиться. По-моему, хоть продовольственные пайки по карточкам каждый год уменьшались, но таких голодных людей, как в 1941 году, я больше не видел. Наша же семья как-то избежала этих страданий. О тепле я уже говорил, и с питанием обошлись тоже. Дело в том, что родная сестра бабушки по отцу, Ольга Афанасьевна Варенцова, была видной революционеркой, при царе сидела за это в тюрьме, а в гражданскую войну возглавляла Иваново-Вознесенский губком партии большевиков, она одна из первых получила орден Ленина, потом была членом ЦКК ВКП(б). Она избежала сталинских чисток только потому, что вовремя отошла от политической работы, занявшись научной деятельностью (я помню, как перед войной в нашей печке-голландке жег её переписку с Бухариным, Бубновым и с какими-то другими расстрелянными партийцами, имен которых я и не запомнил). Впоследствии партия свою активистку, хоть и бывшую, не забыла и обеспечила ей (как и другим избежавшим репрессий «старым большевикам») жизнь, с которой была знакома только партийная элита: отдельная квартира в центре Москвы, дача, машина с шофером и «кремлевское» медико-социальное обеспечение. Надо отдать должное Ольге Афанасьевне, она, дочь крупного Иваново-Вознесенского текстильного магната, пошла в революцию действительно для борьбы за правое дело и была в жизни предельно скромной. В её квартире были только стеллажи с книгами, стол да койка. Она практически не пользовалась дачей и машиной, а вот полагавшейся ей паек спас нас от голода: его надо было получать по её доверенности в спецкомнате при «кремлевской» больнице, что была на улице Грановского напротив библиотеки им. Ленина. За пайком ходила её племянница, моя тетушка. Она приносила его Ольге Афанасьевне, та брала какую-то крошку, а остальное отправляла нам. Этого пайка хватало на нас четверых: родную бабушку, маму, меня и эту тетушку. Так при всеобщем голоде мы ели колбаску-ветчинку, хорошую рыбу и нередко икру, а о сладком и фруктах уже не говорю – их было в достатке. О таком же «коммунизме для коммунистов» мама рассказывала, вспоминая свою работу директором «детспецдома» для партэлиты в первые годы гражданской войны. Тогда среди общей разрухи, голода и холода был в парке на Яузе, при её пересечении с Земляным валом, особняк с бассейном и центральным отоплением, а главное, в кладовой всегда стояли бочонки с икрой и всякими солениями (а «партдетки» капризничали: одним подай черную икру, другим – красную). Эти мамины рассказы, когда мы делили на четверых пайку (и нам вроде бы хватало), были для меня уроком коммунистической «справедливости». Дополнил этот «политкурс» рассказ моего старшего двоюродного (по матери) брата. Он был радистом на транспортном самолете и летал челночными рейсами через линию фронта в осажденный Ленинград и обратно. Я помню, с каким возмущением, даже злобой, он рассказывал маме, что в Ленинград грузили различные деликатесы, коньяки и фрукты, о которых ленинградцы и знать не могли (и это вместо медикаментов и необходимых для осажденных продуктов), а обратно в Москву вместо раненых вез домашнюю утварь партийных начальников.
Дальнейшая моя жизнь подтвердила реальность и вопиющую несправедливость сосуществования двух миров в едином советском пространстве: закрытой жизни партийного руководства и открытой жизни руководимого им народа (включая рядовых партийцев). Моя судьба заводила меня и в зал заседаний политбюро ЦК и в личную квартиру секретаря этого ЦК, и к честным, но нищим коммунистам. Это всё было уже после войны, но первые уроки относительно двуличности, лживости в жизни нашей страны я получил еще в военные годы.
После разгрома немцев под Москвой в городе как-то посветлело. Хотя по-прежнему соблюдалась светомаскировка, продолжали объявляться воздушные тревоги, но чувствовалось какое-то снижение напряженности, на улицах стало больше прохожих, уже прекратилась насильственная эвакуация детей, в наш двор вернулись два – три моих дружка. Почти каждый день мы бегали в кинотеатр «Хроника», что был на углу Сретенки и Сретенского бульвара. Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» мы смотрели десятки раз. Среди нас начались ранее неизвестные увлечения: сначала собирали и коллекционировали осколки от зенитных взрывов (после каждого обстрела немецких самолетов на улице и во дворах можно было найти осколок, даже воткнувшийся в землю), а потом дело дошло до сбора «трофеев». Времени у нас было много, школы были закрыты, родители за нами уследить не могли. Уже где-то в марте-апреле мы решили «ходить по следам войны». Излюбленными были места по обеим сторонам Минского шоссе в районе Кунцево. Линия фронта туда не доходила. Как я потом узнал, здесь вообще не было такой «линии»: то немцы, то наши, то немцы прорываются, то их отгоняют. Так или иначе, на левой стороне шоссе по направлению от Москвы стоял подбитый немецкий танк. Ну какой мальчишка упустит возможность в него залезть! В нем я нашел плоскогубцы, которыми пользуюсь до сих пор. Оттуда, с этих мест я привез пробитую каску, штык – я хвастался этими находками. Как же мы научились выпрашивать, чтобы нас посадили на попутку от конечной трамвайной остановки на заставе (теперь пересечение Кутузовского проспекта и ТТК), где ещё стояли противотанковые ежи, до развалин кунцевских домов. Вроде бы военное время, всё строго, а шофера-водители были такие добрые, что никто ни разу не отказал, правда, ехать было не очень далеко. Кончилось всё тем, что дома мне так попало за мои поиски трофеев, что помню до сих пор. Мама меня не ругала, но поставила на свое место: вот война еще идет, сынок пропал, хорошо, что нашелся, а мог и на мине подорваться или ещё как пропасть, а что я должна была думать, пока ты не вернулся? Её слова: «Как же, Федя, ты жесток ко мне» – помню, как сейчас сказано. Это был урок ответственности за спокойствие матери. Мой план поехать на Ленинградское шоссе к мосту через канал Москва-Волга (говорили, что через этот мост сумели проскочить немецкие мотоциклисты и их сразу же наши подбили) был отброшен со всей категоричностью.
Я рассказывал, что в 41-ом мы буквально бежали от подходящего фронта и многую домашнюю утварь оставили на даче. После очищения Подмосковья от немцев надо было ехать за вещами (керосинкой, посудой и всем остальным). Бои в этом месте были тяжелые. Станция «Крюково» и деревня 8 раз переходили из рук в руки. На этой политой кровью земле советские войска не сдали рубежи, не пустили врага в Москву. Здесь, в декабре 1941 года, на Крюковской земле, началось контрнаступление наших войск, положившее начало Великой Победе. Раньше у стации был скверик, это было радостное для нас место, там мы ждали отца, и он приезжал почти каждый вечер. Когда мы в этот раз приехали в Крюково, то на месте скверика была большая братская могила, лежали цветы, стояли женщины в черных платочках.
Наша первая поезда в Крюково после отступления немцев оказалась опасной и грустной. С Уланского переулка на Ленинградский вокзал мы пошли пешком через Орликов переулок. Здесь случилось непредвиденное. Днем, часов в 11 совершенно неожиданно прилетел немецкий самолет и стал кружить над городом, сразу же загрохотали зенитные батареи и начала падать шрапнель от взрывов зенитных снарядов. Осколки втыкались в асфальт и торчали как зубья. Мама заметалась, хотела забежать в какой-нибудь подъезд, но все двери оказались закрытыми. На улице никого – ни машин, ни людей, мы одни. Мама тянет меня то в одну сторону, то в другую, то пытается прикрыть меня своим телом, я понял – она испугалась, и мне стало жалко её. Я вспомнил последний урок и свою ответственность за спокойствие матери. Я не плакал, не показывал, что мне тоже страшно, только сказал, давай плотно прижмемся к стене дома. Вдруг стрельба прекратилась и самолета не стало слышно. Еще немного постояв у стены, мы пошли на вокзал.
Паровичок вез нас медленно, не так, как до войны. Мы проезжали через разрушенные дома в Химках, через сожженную Сходню и с опаской ждали, что нас ждет в Крюково. К счастью, разрушений на пути к нашему дому оказалось меньше, чем мы предполагали. А вот из моего любимого прудика торчал наполовину затопленный немецкий танк – он провалился сквозь лед, наверное, танкист не предполагал, что под снегом был пруд. Дом нашего хозяина был цел, но в доме было горе. Погибла моя любимая Лизочка. Дело было так: пока шли бои и фронт перекатывался через Крюково то в сторону Москвы, то обратно, вся семья Раззореновых пряталась в землянке, переделанной из ущелья, в котором ещё я скрывался от самолетов в начале их налетов на Москву. Когда бои вроде бы кончились и всё утихло, Лиза выглянула из землянки и тут же была убита пулей, попавшей ей в голову. Кто мог стрелять? Какой-то немецкий снайпер – так решили все. Лизу хоронили на настоящем кладбище, когда немцы отступили от Крюково, а до этого она, накрытая одеялом, лежала на морозе во дворе. Я давно уже не плакал, но когда Александра Степановна рассказывала об этом горе, я не мог сдержать слез. Всё же у нас была искреннее, но вполне достаточное для детского возраста чувство, чтобы так называться – любовь. Мы любили быть вместе, вслух читать друг другу книжки, во время игр всегда были в одной команде, а когда устраивали «ручеек», то всегда выбирали друг друга (как сейчас помню её холодные, влажные ладошки), я чувствовал её заботу обо мне и отвечал тем же, всегда угощал чем-то вкусненьким, что привозил папа из Москвы. Словом, это была моя Лиза, иногда у меня даже спрашивали: ну где твоя Лиза, ей уже пора домой идти. Я так мечтал её увидеть, когда ехал в этот раз в Крюково, и не мог сразу понять, что всё – больше никогда, больше никогда ... Осознание этой безвозвратности вошло не в голову, а в душу, и стало суровым уроком признания реальности смерти близкого человека, я даже почувствовал, что повзрослел.
Несмотря на подкормку нашей семьи из «кремлевских» пайков революционерки Ольги Афанасьевны, продовольственная проблема в 1942 году стала ощущаться острее, карточки «худели». Как и многие другие, родители решили завести огород. Отцу разрешили использовать под огород бульварчик, что был (он и сейчас там) около шлюза на Сыромятнической набережной Яузы. Бульварчик был огорожен потому, что у самого шлюза стояла зенитная батарея ПВО, отец как-то договорился, что маму будут пропускать, ну а я – просто с ней. Это всё хорошо: и охрана, и вода для полива огорода тут же из реки, и транспорт – на трамвае до Курского и троллейбус «Б» по Садовой прямо до нашего Уланского переулка – быстро и дешево. Если не бывает худа без добра, то и в добре может прятаться худо. Так вышло и у нас, это худо обнаружилось сразу: сколько сейчас помню, копать наш огород просто так было нельзя, лопата в землю не входила, столько в ней было битых кирпичей – бульвар всё же. Сколько же ведер этих битых кирпичей мы с мамой накопали и вынесли в сторону, прежде чем смогли создать делянку для посадки мешка картошки! Я поставил восклицательный знак потому, что это был первый настоящий тяжелый физический труд, который стал для меня полноценным уроком преодоления «через не могу, раз надо». Мне было уже 9 лет, и я подумать не мог, чтобы оставить маму без помощника. Увы, к осени мы выкопали столько же, сколько посадили – один мешок, но мешок картошки осенью 1942 года был более ценен, чем весной: пайки по карточкам становились всё скуднее.
1 сентября 42-го открыли школу, но не мою в Уланском переулке (там продолжал работать военный госпиталь), а на Садово-Спасской. У меня пропал учебный год, зато мама отдала меня в музыкальную школу. Тоже на Садовом кольце, но у площади Земляной вал. Конечно, я благодарен маме за это, но всё было сложно: бомбежки продолжались и не всегда можно было идти в школу, часто отключали свет, и с ноября, когда стало рано смеркаться, начались проблемы с подготовкой домашних заданий. Разбираться с нотами и играть было темно, пользоваться же своим изобретением – «радиосветом» было нельзя: во-первых, когда по радио шли передачи, лампочка сильно мигала, а во-вторых, сама музыка по радио мешала играть. Кроме того, от упавшей на Сретенском бульваре бомбы треснула дека в нашем рояле, и он мог настраиваться только на полтора тона ниже. Из-за этого была разница звучания дома и в музыкальной школе. Я очень люблю музыку, наша семья была музыкальной: мама пела, папа и брат были хорошими гитаристами, до войны мы всей семьей часто ходили на Чистопрудный бульвар, где перед прудом была концертная площадка и под «ракушкой» на сцене выступал военный духовой оркестр, теперь же на этом месте стояла зенитная батарея. Однако музыка уже закрепилась в моей душе, пройдя со мной через всю жизнь.
Осенью 1942 года мой двоюродный (по отцу) брат Вячеслав (будущий известный писатель-фронтовик) вернулся в Москву, получив отпуск по ранению. Этот отпуск по ранению под соответствующим названием он впоследствии описал в повести и в пьесе, которую ставили во МХАТе и за рубежом. Конечно, для всех нас это тоже было особое событие. Он жил недалеко, на Мещанской, и нередко навещал нас. Его, своего первого внука, бабушка просто почитала, и к его приходу всегда где-то находила спиртное, чтобы угостить любимого внучка и тем пригасить его фронтовые переживания. Вячеславу в это время было всего 22 года, но мне он казался действительно героем, у него уже была медаль «За отвагу». С Вячеславом я по-настоящему сдружился лишь в 60-е годы, до этого нас разъединяла разница в 13 лет. Когда началась война, Вячеслава переправили с Дальнего Востока, где он проходил срочную службу, прямо на фронт, ему пришлось участвовать в тяжелых боях под Ржевом, многие события этого периода он описал в повести «Сашка». А пока, в этом отпуске по ранению, за столом первое слово, конечно, было за ним. После нескольких рюмок он становился всё более откровенным, эмоциональным и чувствовалось, что фронтовая «напряженка» с него сходит. Он не геройствовал, не просил сочувствия, но было ясно, что ему хотелось, чтобы его поняли, а если и сочувствовали, то не ему лично, а всем тем, кто был там, на фронте. Когда он рассказывал, что у них на передовой была на взвод одна винтовка и одна буханка хлеба, а командиры были просто неграмотными в военном деле, поскольку грамотных перед войной расстреляли, то слезы были не только у него на глазах, но и у нас. Потом он брал гитару и начинал речитативом пропевать симоновские стихи:
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: Господь вас спаси! –
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась . . .
На этом месте слезы пробивались и у меня. Я начинал явственно понимать, какое настоящее горе свалилось на нашу страну и какая эта страна большая, и как надо её любить и защищать. Это был урок патриотизма.
Октябрьские праздники 1942 года в Москве прошли иначе, чем в 1941 году. Тогда всё было мрачно и дико холодно, а главное – у порога стояли немцы и казалось, что слышна артиллерийская канонада. Теперь немцев отогнали, реже стали объявлять воздушную тревогу, а сам день 7 ноября в тот год был солнечным, ярким. Я отпросился у мамы пойти на Красную площадь. Шел я по Кировской улице (ныне Мясницкой) и вдруг заметил, что ни дом, то одни и те же «украшения» – портреты партийных вождей: и тут и там, и на Лубянке, и в Охотном ряду – всюду. Вспомнил, что и в школе в большом коридоре на первом этаже были огромные, писанные масляной краской портреты этих вождей с указанием их имен, и я их запомнил: Сталин, Молотов, Берия, Ворошилов, Каганович, Калинин, Маленков, Микоян ... . Признаюсь, что задумался: «А зачем это?», «А для кого это?». Какой я тогда дал себе ответ – не помню, но то, что мне это показалось глупым, запомнил. [лишь весной 1953 г. после смерти Сталина по инициативе Л.П. Берия эти «иконостасы» были упразднены] Когда пришел на Красную площадь, то там после проведенного парада остался играть военный духовой оркестр. Мне больше не нужно было ничего! Но вот оркестр, не прекращая играть, пошел по Васильевскому спуску на Кремлевскую набережную. Я и еще сколько-то мальчишек пошли за ним. Пока шли по Кремлевской набережной, всё было хорошо, я это место знал, до войны папа часто гулял со мной вдоль Кремлевской стены, у которой через каждые метров 20 – 30 всегда стояли красноармейцы в будёновках и с винтовками со штыками (помню, я у папы спросил, зачем эти штыки, он как-то странно ответил: «Чтобы мы не разговаривали»). Шел я с оркестром как завороженный и не заметил даже, как подошли к каркасам недостроенного «Дворца Советов» – это место я тоже знал, мама водила меня в рядом расположенную церковь в Обыденном переулке. Но вот пошли дальше по незнакомой мне Кропоткинской (ныне Пречистенской) улице, ну, думаю, дорогу обратно запомню, хотя дома вроде бы стали одинаковыми: на них всё те же «иконостасы». Переходим Садовое кольцо и дальше по уже совсем незнакомой улице. Однако я успокоился, думаю, не страшно: раз Садовая, то и троллейбус «Б», он до моего Уланского довезет. Иду с оркестром дальше, смотрю, других мальчишек уже нет, видимо, устали и ушли. Устал и я, да еще есть захотелось. Вдруг оркестр остановился, перестал играть, а потом была какая-то команда и музыканты стали куда-то расходиться. Смотрю, всё совсем незнакомое: высокая, как кремлевская, красная кирпичная стена, за ней колокольня, а здесь, рядом какие-то халупы, вокруг которых цыганята. Да и темнеть начинало, а путь домой весьма далек. Понял я, что музыка – хорошо, но надо уметь останавливаться в своих увлечениях, это тоже стало уроком. Но не успел я как следует осознать серьезность положения, как вижу: идет трамвай «А», на нем написано: «Новодевичий монастырь» – «Павелецкий вокзал». Всё, проблем нет! Понял, что нахожусь у стен Новодевичьего монастыря, а «А» пойдет по бульварному кольцу мимо моего Уланского, этим трамваем я с мамой уже ездил из церкви домой. Сел и стал смотреть в окно. Меня уже стали смешить бесконечные, почти на каждом доме одинаковые партийные «иконостасы», правда, иногда попадались и другие, но столь же однотипные: «Слава ВКП(б)!», «Да здравствует XXV Октябрь!».
Моего брата Володю к этому времени уже призвали в армию, ему было 17 лет. Его часть стояла «на учебке» под Москвой в Кузьминках, в конце 42-го разрешили свидания. Мама со мной несколько раз ездила на встречи с ним. Ехали в темной электричке (светомаскировка!), потом долго шли. Сколько раз я вспоминал путь от станции Люблино через большой Люблинский пруд в Кузьминки, где стояла его часть. Дело в том, что дорога существенно сокращалась, если идти через этот пруд по льду. Были страшные морозы и лед был крепким, но идти надо было долго, и я чувствовал, как ледяной ветер входит мне в спину и проходит сквозь меня – такое не забывается. Маме, конечно, тоже было холодно, но главной её заботой оставались дети. Мне она говорила: не разговаривай, не вдыхай глубоко, дыши в воротник, а сама всё беспокоилась, чтобы не остыла манная кашка, которую она сварила перед отъездом и закутала сначала в какую-то шерстяную кофту, а потом в газеты. Кашка не остыла (как же была счастлива мама!), брат тоже был рад, но как-то стеснялся перед другими новобранцами. Он огорчил маму, что стал курить. Курили все ребята вокруг, курили, отрывая от папирос мундштук и оставляя только курку, получалось что-то вроде короткой сигареты. Говорили, что курить сигареты модно. Я, конечно, это не понял, но запомнил и собезьянничал: дома из папиросной бумаги и ваты скрутил «сигарету» и затянулся. Начался такой кашель, что следующую, уже настоящую, сигарету я закурил лет через 20. Это тоже был хороший урок, не надо торопить жизнь в поисках удовольствия: тише едешь – дальше будешь.
Конец 42-го и начало 43-го вновь стали какими-то напряженными, хотя воздушные тревоги объявлялись реже. Шла Сталинградская битва. В соседней трехкомнатной, как наша, квартире жили три семьи, все мы друг друга знали и были в хороших отношениях. И вот сюда в конце 42-го пришла первая похоронка: сгорел в танке отец трех сыновей, один из них – мой ровесник, другой – старше, третий – младше. Все ходили утешать и вдову и ребят. Вскоре приходит похоронка в другую комнату – погиб под Сталинградом ровесник моего брата, а в начале 43-го пришла похоронка и в третью комнату, и всё – из квартиры соседей выбиты все, кто мог встать в строй. А таких квартир в нашем трехкорпусном доме было немало: более половины ребят 20 – 24 годов рождения были убиты в этот период войны. Для меня это стало мрачным уроком серьезного отношения к войне как к злу, несущему смерть и горе.
Очень хорошо помню февраль 1943 года. Не знаю зачем, но нас, второклашек, построили линейкой в школьном дворе. Был яркий солнечный день и, несмотря на морозец, под крышей наливались первые сосульки и капали яркими блестками. Нам торжественно объявили о полной нашей победе в Сталинградской битве и о том, что теперь у военных будут погоны. Это был и мой день рождения, как-никак мне пошел второй десяток, все меня поздравили: учительница и одноклашки, мальчики и девочки. Вскоре мы узнали, что это последний год совместного обучения ребят и девчонок, что нас разведут по разным школам и не будет больше нашей дружной семьи детей, которых сроднили суровые годы войны. Судьба нас свела вместе и она же развела – ах, эта судьба, куда от неё уйдешь, подумалось мне на этом уроке.
Вот и кончился учебный год. Александра Степановна предложила маме отдать меня ей на лето в Крюково. Конечно, это было хорошо, здесь я всё знал, были знакомые местные мальчишки, к тому же Александра Степановна купила козу. Когда мы подъезжали к Крюково, то нельзя было не видеть из окна вагона гору разбитой немецкой и нашей техники, сложенной вдоль путей на грузовой станции: танки, пушки, бронетранспортеры, автомашины, даже самолеты и какой-то другой искорёженный метал, видимо, всё это был заготовлено для отправки на переплавку. Мама заметила, как у меня загорелись глаза, а я почувствовал, что у меня зачесались руки обследовать всю эту технику. Я не удивился, когда мама строго сказала мне: дай слово, что не пойдешь сюда, иначе я тебя не оставлю в Крюково и заберу обратно в Москву. Пришлось для спокойствия мамы дать слово, что сюда я не пойду – она уже знала, что от данного слова я отступить не могу, и успокоилась. Однако я помнил, что у меня в запасе танк, который провалился в мой любимый прудок. И я, маленький хитрец, чтобы не получить ещё одного запрета, пошел, когда проходили прудок, с такой стороны от мамы, чтобы она смотрела в другую от танка сторону, да при этом что-то стал ей говорить, чтобы совсем отвлечь её внимание. И конечно, когда мама уехала, первое, чем я занялся, это освоением военной техники. Танк был метрах в трех от берега, стоял, как бы пытаясь выбраться после провала на берег. Его передняя часть вместе с башней и пушкой была над водой, а вот задняя, где мотор, утонула (наверное, он от этого заглох в 41-ом). Чтобы добраться до танка, надо было пройти по колено в воде, что я быстро сделал и ловко залез на броню, а там и в башню. Здесь меня ждало разочарование: увы, я был далеко не первым в этой башне, и всё, что можно было открутить и отвернуть, уже было сделано до меня – не мог же я в память о нашей победе отломить пушку! Урок таков: «не надейся на хитрость свою».
Дом Раззореновых был последним на улице: идти направо от него будет станция, а налево – лес (в этом лесу до войны недалеко от дома прятали нарисованные папой грибы, а мама организовала соревнование ребятишек – кто больше их соберет). Вот этот лес и стал местом моих исканий. В первый день я нашел пробитую осколками нашу каску и немецкий штык-кинжал. Каску решил отдать в школьный музей, а штык-кинжал оставить себе, спрятав его пока под кровать, и всё ломал голову, как его перевезти в Москву, чтобы мама не заметила. Пока я всё это обдумывал, штык пропал. Кроме Александры Степановны никто в мою комнату не заходил, значит, она, когда мыла пол, нашла его и куда-то убрала. Я у неё об этом не спрашивал, а она мне не говорила – так был разрешен сложный для меня вопрос. И я подумал: как просто иногда решаются сложные вопросы. Урок же был таков: не создавай себе проблем, прежде, чем что-то делать, продумай последствия.
Ещё один эпизод того лета 1943 года в Крюково остался у меня в памяти на всю жизнь. Я продолжал ходить в лес, в том числе и в дальний. Натыкался там на разбитую технику (какой-то сгоревший бронетранспортер, развороченную пушку), находил и очень интересную мелочевку. Вдруг, смотрю, лежит мина, я остановился, внимательно посмотрел вокруг: еще мина, а там дальше еще мина. Я замер, мне стало страшно. Страшно не столько за себя, сколько за маму – я представил, что станет с ней, когда ей скажут, что я подорвался на мине. Осторожно, высоко поднимая ноги и внимательно всматриваясь в то место, где будет следующий шаг, я стал медленно выходить из леса и, помню, как выйдя на дорогу и оказавшись в безопасности перевел дыхание и вдруг увидал голубое небо, солнышко, красоту кругом, а недалеко большое табло: «В лес не входить! МИНЫ!». Я понял: что же я мог навсегда потерять из-за своей самонадеянной смелости! С тех пор в критических ситуациях (а мне приходилось быть в заложниках) я осознавал, что моя жизнь принадлежит не только мне, что от неё зависит счастье близких людей. Хорошие уроки я получил в Крюково.
Когда мама привезла меня обратно в Москву, то меня ждал сюрприз. Она меня повела в парк культуры им. Горького, где ровно через два года после начала войны была организована большая выставка образцов трофейного вооружения. Потом я один ездил раза два – три на эту выставку, всё посмотрел, подержал-потрогал, многое усвоил. Главным же уроком было то, что я осознал мудрость поговорки «пути Господни неисповедимы», когда вспомнил, как чуть больше двух лет назад на этом же месте был «раненым», которого искали, а потом бинтовали будущие защитники Москвы, как с тревогой ожидали начало войны, как трудно было предвидеть её ход. Конечно, никто тогда не мог и подумать, что здесь будет выставка трофейного оружия. И ещё: в одном из павильонов выставки было что-то, что напоминало витрину фруктового базара с ящиками разных фруктов. Здесь же были ящики, в которых горкой были насыпаны фашистские ордена и медали. Какое-то странное чувство овладело мной: эти ордена и медали не нашли своих обладателей, что, конечно, хорошо, ведь они были сделаны для того, чтобы украсить грудь убийц-захватчиков, называющих себя цивилизованной нацией, несущей «новый порядок». Но вот сейчас, вспоминая эти «витрины», ловлю себя на том, что тогда у меня всё же преобладало чувство гадливости: ведь эти ордена были сделаны для игры на жажде славы, полученной за мерзость военных преступлений. Урок же был таков: не всякая награда славит человека.
В начале августа 1943 года по радио был торжественно зачитан приказ Главнокомандующего Сталина об освобождении городов Орел и Белгород и о проведении в честь этого события салюта. Салют был назначен на полночь. Мы все, и мальчишки и взрослые, были в каком-то радостном напряжении, ожидая это событие. Я решился по пожарной лестнице полезть на крышу нашего 4-этажного дома – на ней я не был с лета 1941 года, когда сигналил об упавших зажигалках. Светомаскировку еще не сняли, но улицы уже сколько-то освещались. В целом же было темно. И вдруг вспыхнули и пошли гулять по небу лучи прожекторов, ухнул пушечный залп, в небо поднялись ракеты – красные, желтые, зеленые. Этот и другие первые салюты ещё не были фейерверками с гроздьями распускающихся цветных огней. Это были залповые выстрелы одиночными ракетами, что было, конечно, красиво, но главную красоту давали пулеметные очереди цветными трассирующими пулями, и эти огненные ленты гуляли по небу, пересекались и между собой и с лучами прожекторов. Самые красивые салюты цветными трассирующими очередями были с углового (ул. Горького и Страстной бульвар) дома. У нас, мальчишек, появился новый азарт – собирать заглушки от ракет, они имели разную «цену» от того, какого были цвета – самыми дорогими были красные, на них можно было поменять две желтых. Урок таков: война не только горе, она может принести и радость, если ты, конечно, победитель.
Начало учебного года в сентябре 43-го было необычным. Школа, в которую нас перевели, была далеко от дома: надо было дойти до конца Уланского переулка, затем пройти весь Сретенский бульвар и, повернув налево, дойти до конца улицы Мархлевского (теперь Милютинского переулка), до разбомбленных домов на углу с Кировской (Мясницкой). Здание школы не понравилось, какое-то оно было неуклюже большое, внутри темное, с классными комнатами разного размера. Говорили, что раньше здесь была мужская гимназия, теперь же стала мужская школа, классы без девочек казались какими-то неполноценными. Плохим было и то, что учиться мы стали в третью смену, где то с 5 вечера, осенью-зимой приходили в школу в темноте и уходили в темноте. Хорошим было только то, что нам на большой перемене стали раздавать по большому бублику с маком. Вначале это было действительно хорошо: дежурному по классу давали коробку с этими бубликами и он раздавал их каждому, проходя между партами. Затем начался какой-то беспредел. Три второгодника, наглых, глуповатых и физически сильных, объединились и установили, как они говорили, «новый порядок». Они заявили, что так раздавать бублики долго и теперь они организуют раздачу «на шарап» – поставят коробку на учительский стол, и каждый будет брать свой бублик. В результате у стола возникала свалка (а в классе было до 40 человек), и кому-то бублик не доставался, зато организаторы нового порядка хватали по 2 – 3 бублика. Я свой бублик всегда брал, но «новый порядок» меня возмутил, однако когда я пытался об этом сказать в классе, то никто меня не поддержал, даже те, кто всегда оказывался обделенным. Мне их было жалко и, зная, что сами они побоятся об этом сказать, я попросил классного руководителя быть при раздаче бубликов. Она пришла в класс и всем сказала, что Кондратьев не доволен порядком раздачи бубликов и, к моему удивлению, предложила тем, кто этот порядок ввел, сделать так, чтобы в классе «стало хорошо» и ей не мешали отдыхать в большую перемену. После её ухода я получил первый урок, как теперь говорят, «борьбы за права человека». Не успела она выйти, как на меня сзади накинули чье-то пальто, повалили на пол и стали бить, свет в классе погасили, стало совсем темно, и кто меня бьет, я мог только догадываться. А потом это и не скрывалось, «нашарапники» сказали, что ещё устроят мне «темную», если буду выступать. Долго ждать не пришлось, на следующий день, когда принесли бублики и я пытался остановить этот «на шарап», меня ударил один из организаторов «нового порядка». Я мальчишка рослый, сильный, но никогда ни с кем не дрался. А здесь, получив удар в лицо, сразу сунул кулаком в нос напавшему. У того кровь струёй, все ребята и я замерли, а тут как раз в класс входит учительница: «Кондратьев, ты жаловался на него, а теперь избил до крови. Вон из класса! Иди к директору и скажи, что я тебя выгнала за то, что ты устроил кровавую, как фашист, войну». Я понял, что объяснять ей «что и почему» бесполезно и пошел к директору. Директор был из демобилизованных по ранению, он выслушал весь мой рассказ, начиная с первых «нашарапов», за что я «пустил кровь», я не оправдывался, правда, сказал, что не знал, что у меня такой сильный, до крови удар. Вопреки моим ожиданиям директор сказал: «Молодец, слабых надо защищать, а за правду бороться». Он отпустил меня домой и сказал, чтобы я с завтрашнего дня приходил в другой, параллельный класс, он даст соответствующее распоряжение учителям.
Слова директора запали в мою душу и стали уроком: если я и раньше чувствовал, что слабых надо защищать, а за правду бороться, то теперь это чувство превратилось в уверенность, что надо действовать, когда видишь несправедливость.
В актовом зале школы на стенде было сделано что-то вроде стенной газеты, верхний её угол наискось пересекала черная, а правый – красная лента. Под заголовком «Их отцы и братья погибли, защищая Родину» перечислялись фамилии школьников и указывались классы, в которых они учатся. В списке были десятки фамилий, и список этот пополнялся. В конце лозунги: «Наше дело правое. Победа будет за нами!», «Да здравствует Великий Сталин». Я никогда не понимал, почему победа будет «за нами», а не «с нами»: если за мной, за моей спиной, то, стало быть, у тех, кто идет сзади, и я от них ухожу, то есть я отступаю. Мне приходилось решать навязчивый вопрос: то ли другие не понимают этого противоречия, то ли здесь всё нормально, и просто я «не такой, как все?». И, конечно, «товарищ Сталин», про него говорили все радиопередачи и в киножурналах перед каждым фильмом, его имя и портреты были всюду, где только можно было что-то написать и изобразить, его именем назывались танки, паровозы ... и т.д. и т.п. до нелепости. Я всё думал, знает ли он об этом или нет. Если знает, то какай он «мудрый», если всё это допускает? А если не знает, то какой он «великий»? Я не видел, что бы кто-то из моих сверстников задавался этими вопросами и уже понимал, что обсуждать такие вопросы с ними опасно. Так, наверное, во мне формировался «диссидент».
На октябрьские праздники в 43-ем году я получил еще один важный урок. У меня была замечательная крестная мать – тетя Шура, сестра моей мамы. В начале 20-х годов, еще совсем юной, она закончила курсы стенографии и машинописи и была приглашена работать в аппарат ЦК ВКП(б) на Старой площади. Имея хорошие способности и будучи трудолюбивой, она быстро поднималась по служебной лестнице, задержкой было только то, что она упорно отказывалась вступать в партию; она была верующей и не хотела заключать сделку с совестью. Так или иначе, перед уходом на пенсию она была помощником заведующего отделом секретариата Политбюро, через неё проходила вся почта, поступающая от граждан в ЦК, и она на каждое письма писала краткий реферат (о чем письмо) и определяла его дальнейший путь. В годы войны она нередко печатала тексты под диктовку Сталина и других вождей. Она работала честно и не отказывалась от тех благ, которые ей перепадали за труд в ЦК. Это её дом разбомбили в 41-ом году в Староконюшенном переулке, ХОЗУ ЦК позаботилось и её сразу же поселили в рядом расположенный большой «циковский» дом, правда, пока еще в квартиру эвакуированных. Она всегда пользовалась «спецбуфетом» и помню, как я на велосипеде подъезжал к подъезду дома ЦК со стороны Ипатьевского переулка, и она выносила бидончик молока для родившегося у брата после войны первенца, она же помогла ему купить детский горшок – всё это для «простых» было недосягаемо в те годы. И конечно, благодаря ей её сын и внук и мой брат с детьми всегда были обеспечены дачей в «циковском» поселке со спецстоловой и спецмагазином на Сходне или в Кратово. Московские «спец» распространялось на дефицитные товары (на 3-ем этаже ГУМа), на подписные издания, билеты в театры. В 43-ем тетя Шура взяла меня с собой на «спец»концерт для сотрудников аппарата ЦК по случаю годовщины Октябрьской революции. В главном здании ЦК на Старой площади после тщательной проверки документов и пригласительного билета (он у тети Шуры был на двоих) нас допустили до эскалатора, который опустил нас в какой-то очень большой, очень светлый, с искусственными пальмами, зал. Для меня это была фантастика, к тому же там стояли накрытые столы и можно было подойти и взять любой бутерброд, пирожок, конфету, напиток ... . Только недавно я был задержан за «попытку кражи соли» в детской столовой, когда взял с другого стола солонку посолить свой суп, поскольку солонка на моем столе была пустая. И вдруг – «бери, не хочу». Вспомнились мамины рассказы о бочонке с икрой в спецдетдоме в голодающей Москве и умершая от голода на моих глазах соседка маминой крестной, и рассказы одного двоюродного брата о «жирующих коммунистах» в блокадном Ленинграде, другого брата – о голодных красноармейцах под Ржевом и многое другое из мифа об «единстве партии и народа». Стало как-то горько, выступающие на сцене всеми и мной тоже любимые артисты, Андреев и Бернес из недавно вышедшего кинофильма «Два бойца», Канделаки и другие воспринимались как клоуны, пришедшие на кормушку. Этот контраст фактически стал реальным уроком социологии, тогда же я неосознанно почувствовал, что в жизни, и большой и малой, существуют свои сильные и наглые организаторы системы «нашарапа», что нужно их знать, чтобы умело сдерживать или, по крайней мере, держаться от них в стороне ибо и без них можно обойтись (не имея партбилета – чем и горжусь – я стал доктором наук, профессором, судебно-психиатрическим экспертом высшей квалификационной категории, руководителем экспертного отделения Института им. Сербского, Заслуженным врачом России, объездил весь мир, включая США и Японию).

Весной 44-го года неожиданно в краткосрочный отпуск приехал мой родной брат, а с ним два лейтенанта, его командиры. Брату еще не было и 20 лет, а его командирам – чуть больше, но у всех уже были боевые ордена – орден Славы у брата, ордена Красной Звезды и Боевого Красного Знамени и другие награды у приехавших с ним однополчан. Ситуацию я понял так: командирам брата дали кратковременный отпуск, им хотелось побывать в Москве, но в Москве у них никого не было, чтобы остановиться, вот они и взяли с собой москвича, который гарантировал им ночевку. Мама была безумно рада этой встрече, всячески пыталась угодить командирам брата, а меня, когда они возвращались домой, посылала с трехлитровым бидончиком за пивом для них. Надо сказать, что к этому времени в Москве стало открываться много пивных «забегаловок». В моем Уланском переулке от Сретенского бульвара до дома № 7, в котором мы жили, каких-нибудь метров 100, но на этом пути было открыто 3 таких «забегаловки», в которых можно было стоя выпить водки, разливное жигулевское пиво, закусить чем-то съедобным – и все без карточек, правда, по коммерческой цене. Как же тщательно гости, прямо таки по-щегольски, наряжались перед выходом в город! На улицах был еще морозец, лежал снег, а они выходили в легких полуботиночках и так их перед выходом начищали, что в комнате становилось светлее. Я радовался за них, хотел, чтобы они остались у нас дома, играли во дворе в футбол, танцевали с девушками, но... Но вскоре пришло от брата письмо о гибели его старших товарищей в Польше при освобождении г. Люблина. Короткое, но очень теплое общение с ними оставило в моем сердце чувство родственной связи.
Известие об их гибели сделало меня каким-то ещё более серьезным: то был ещё один урок по классу зрелости личности.
До, после и во время войны два раза в год в нашей квартире, в комнате тетушки традиционно собирались все родственники по линии отца: отмечали в июне бабушкины, а в сентябре – тетушкины именины. За столом случайных гостей не бывало, и поэтому разговоры велись откровенные, на самые наболевшие темы. Иногда меня просили пойти постоять во дворе у окна квартиры и постучать в стекло, если кто будет прислушиваться к разговорам в комнате. О необходимости быть бдительным и опасаться подслушивающих шпионов наставляли многочисленные плакаты на стенах домов и заборах, заставки перед каждым кинофильмом. Все они были направлены против наших общих врагов – фашистов. Но, как я вскоре понял, не только их надо было опасаться, когда говорили о массовых репрессиях и конкретно о тех тетушкиных знакомых, которые приходили к ней раньше и были арестованы – я их знал, они сидели за этим же столом. Здесь говорили и о нашем отступлении в начале войны, обсуждали причины, искали виновных. Было ясно, что все эти разговоры не для посторонних ушей.
Уже тогда, в годы войны я понял, что Сталин хоть и большой и сильный, но не такой уж добрый и мудрый каким его непрестанно изображали. Эти разговоры тоже были важными уроками жизни.
Ещё один урок «политологии». У нас по отцовской линии был какой-то дальний родственник, принадлежащий к партийной верхушке. Он с нашей семьей не общался – мы беспартийные, ну и никто из нашей семьи к нему не навязывался, хотя мы знали, что он живет в Доме Правительства («Дом на Набережной»), в котором всякие спецмагазины, другие «спец»-«спец» и даже свой «спецтеатр». Я знал, как его зовут, но никогда не видел, даже на фотокарточке. И вот, где-то вначале 1944 года, я шел по своему Уланскому переулку и остановился почитать газету (в те годы разные официальные газеты наклеивали на специальных стендах – тогда мало кто мог выписать газету на свой домашний адрес). И вдруг вижу некролог на этого партдеятеля. Я знал, что бабушке будет интересно узнать, что о нем написали в газете и решил вырезать для неё этот некролог. Не успел я закончить эту «операцию», как тут же был схвачен за руку. Вроде бы мой переулок был пустой и откуда взялся этот тип, не могу представить до сих пор. Но помню злорадное выражение его лица, он завернул мою руку за спину и сказал, что я вредитель, и он отведет меня в милицию. Я пытался что-то ему объяснить, но он не слушал: «Все вы гады такие, сволочи фашистские». Так я в одиннадцать лет оказался «политзадержанным». Он, этот тип, передал меня начальнику отделения милиции, назвав «вредителем». Начальник стал составлять протокол допроса. Я объяснил ему всё как есть: хотел вырезать некролог для бабушки на её родственника, а то она из дома уже не выходит и прочитать газету ей негде, а на завтра на это место всё равно будет наклеена новая газета. Узнав, что у нас есть городской телефон, позвонил, поговорил с мамой и бабушкой и велел маме взять паспорт и прийти за мной в милицию. Когда она пришла, меня выставили в какую-то полутемную без окон комнату, а мама стала объясняться с начальником, я испугался, что её могут за меня арестовать. Дело в том, что задержавший меня тип написал докладную о своей проявленной бдительности и начальник должен был как-то письменно на неё отреагировать, иначе «закрыть дело» было нельзя. Мама связалась по телефону с Ольгой Афанасьевной, объяснила ей ситуацию и передала трубку начальнику. Благодаря заверениям известной революционерки, что она знает меня и я никакой не вредитель, начальник сказал, что меня отпустит. Как рассказала потом мама, он долго писал какое-то объяснение, заставлял маму что-то подписывать, а потом позвал меня, дал какие-то наставления и отпустил домой.
Вот, подумал я, как из мухи делается слон, но для роста политслона нужен спецмухолов. Это тоже был урок, урок политологии.
Муж моей двоюродной тетушки, служивший до войны на Черном море, не раз приезжал в Москву в командировку и останавливался у нас переночевать (тогда он был контр-адмиралом, а после войны, в 1950 – 1956гг., командующим военно-морскими силами Польши – его звали И.Г. Шиллинговский). У него были какие-то встречи в Москве, и когда он уходил по делам, то оставлял свой пистолет у нас дома. Я это заметил, и у меня началось мучительное душевное противостояние: я всегда мечтал взять в руки настоящее боевое, с патронами, оружие – и вот оно передо мной. Но как взять без разрешения? Я вынимал пистолет из кобуры, вытаскивал магазин с патронами, чтобы без них нажать на курок (то была моя мечта!) и останавливался: а вдруг в стволе остался патрон и будет выстрел. Борьба между «очень хочется, но нельзя» с победой «раз нельзя, значит – нет» была важным уроком: я же понимал, что, не умея обращаться с оружием, мог сделать случайный выстрел. Как потом адмирал будет объяснять пропажу патрона? Как он посмотрит на меня? – мне страшно было и представить – ведь идёт война.
На начало лета 44-го года маме удалось поместить меня в пионерский лагерь, хотя в пионеры никто никогда меня не принимал. Таких «пионеров» было много, на это внимание не обращалось, не важно, принимали тебя в пионеры или нет, главное, чтобы умел пионерский галстук завязывать. Лагерь был у Учинского водохранилища, но купаться в нем не разрешали – санитарная зона. Мне не понравилось, что всюду надо было ходить строем и с песнями, всё «делать, как все» и было мало свободного времени. Единственное, что было для меня интересно, это зенитная батарея, охранявшая плотину водохранилища. Я умудрялся ходить к этой батарее почти каждый день и останавливался пред щитом «Стой! Опасная зона. Проход запрещен». Меня заметили, кто-то из командиров спросил, зачем я сюда хожу, ответил, что интересуюсь военной техникой. Мы познакомились, я похвастался, что у меня отец – врач ПВО Москвы. Так или иначе, меня допустили даже посмотреть на учебный залп. После того как при мне грохнул этот залп, я вдруг почувствовал, что интерес к военной технике удовлетворен полностью, что он ушел от меня. Я даже удивился этому: всегда так активно рвался посмотреть-потрогать военное оружие и вдруг, получив максимум в исполнении этого желания в момент оглушающего залпа – всё прошло.
Где-то подсознательно я почувствовал, что это тоже урок для моей жизни, я его не смог сформулировать, но понял: на высоте достижения желаемого интерес к нему пропадает (как во время еды у голодного: «всё, насытился, больше не хочу»).
В середине июля 44-го года в Москве объявили, что будут показывать пленных немцев, что их поведут по Садовому кольцу. Я пришел заранее, чтобы встать в ближайшем ряду. Колонны немцев сопровождали всадники с обнаженными шашками и конвоиры с винтовками наперевес. Сначала шли генералы, кто с потупленным взглядом в землю, кто с нагло-задиристым выражением лица, но все они были как-то отрешены от происходящего и никак не реагировали на народ. Надо сказать, что народ смотрел на них молча, никто их не проклинал и не оскорблял. Колонны были длинными, шли они долго. Потом среди пленных я всё чаще стал замечать таких же молодых, как мой брат и приезжавшие с ним лейтенанты. Я как-то осознал, что они ровесники, что недавно ходили в школу, учили одну и ту же математику, географию, читали одни и те же книги, сказки Андерсена, приключения Жюль Верна и Майн Рида, играли по одним и тем же правилам в футбол и волейбол – но как всё пошло по-разному! А могли бы быть друзьями, вместе играть в тот же футбол или волейбол, а не стрелять друг в друга.
Эти размышления стали для меня первыми уроками о судьбах человеческих. Спустя много лет я рассказал об этом старшему двоюродному брату Вячеславу, который к тому времени уже написал свою повесть «Сашка», там тоже были ровесники, наш красноармеец вел на допрос пленного немецкого солдата, за время долгого пути становилось всё яснее, что они могли быть не врагами, а товарищами. Так или иначе, этот урок заставил меня много раз пересматривать в «Хронике» документальный фильм о марше пленных немцев по Москве и я всегда «изучал» их лица. Урок есть урок, и хорошо, когда он наглядный.
Мой брат в 1945 году был на 1-ом Белорусском фронте, он брал Берлин. Конечно, чувствовалось, что война кончается, и тем обиднее было за тех, кто погибал в это время. Мне уже исполнилось 12 лет, я впервые начал подрабатывать. Я всегда стеснялся просить у мамы деньги на кино, на мороженое, на всякую интересную трофейную мелочевку, что стали продавать в магазинах, я видел, как маме было тяжело «крутиться». У нас во дворе знали, что я «рукастый»: могу подключить дверной звонок, вставить замок, починить кран, исправить проводку. Конкурентов у меня не было, да и конкурировать было некому – война еще шла, а те, кто вернулся, были инвалидами. Так вот, я стал зарабатывать и мог позволить себе ежедневно бегать в «Хронику», события развивались быстро, фронтовые сюжеты каждый раз были новыми. Зееловские высоты с мощными прожекторами на них и вот бои в Берлине. Когда они начались, со мной стала ходить мама, она знала, что брат в Берлине, и всё хотела его увидеть. Раз она даже закричала: «Володя, Володя! Ты видел?». Пришлось пересматривать этот фильм, но то оказался не Володя. До самого дня победы мы с мамой ежедневно ходили в «Хронику» смотреть на уличные бои в Берлине.
Я с детства знал Законы Моисея и заповеди Христа о почитании родителей и за годы войны понял, как это мудро и справедливо. Весь описываемый период до и во время войны я был с мамой (а ей всего было 40 – 45 лет) и я всегда «болел» за неё. На Рождественскую службу в январе 42-го года мы пошли в храм Ильи Пророка (что у метро «Кропоткинская» в Обыденском переулке). Шли в полной темноте, снег тогда не убирали, были огромные сугробы, мама поскользнулась и упала на меня. Как она испугалась за меня! Но, думаю, я испугался за неё ещё больше и считал невозможным пожаловаться на боль в ноге.
Словом, уроки войны научили меня осознанию того, что самое светлое и дорогое в жизни – это мать. С этим чувством я и пишу эти строки.
И последний для меня урок Великой войны. Ещё с довоенных времен мама ходила за моей бабушкой (её матерью) в Староконюшенный переулок, чтобы проводить её в церковь, и почти всегда брала меня с собой. Так я, наверное, лет с трех оказался прихожанином храма Илии Пророка. В один прекрасный день, слушая богослужение, я, шестилетний, стоял у отрытого окна и любовался на стрижей-ласточек, стремительно летающих в ярко-голубом небе. И вот, когда хор запел Херувимскую молитву, я вдруг почувствовал то, что иным словом как «благодать» ни тогда, ни в последующие годы жизни описать оказалось невозможным [спустя десятилетия, занимаясь как профессионал проблемами душевной и духовной жизни, я встретил такие обозначения этого переживания: «религиозное чувство», «чувство со-бытия с Богом», понимаемое как чувство восстановления («ре») связи («лигио») с Богом].
Благодаря этому чувству со-бытия всю последующую жизнь я никогда не был одинок, даже в реальном одиночестве. Спасибо маме!
Помню панику в церкви перед войной, когда подошло время сносить храм. Дело в том, что он располагался недалеко от строящегося на месте ранее взорванного храма Христа Спасителя Дворца Советов – символа победившего коммунизма. Уже был возведен огромной высоты стальной каркас этого дворца, и к окончанию стройки по определению не могло быть рядом православного храма. Прихожане писали коллективные письма с просьбами сохранить храм, но, как я тогда понял, это было небезопасно, говорили, что первых из числа подписавшихся, арестовали. Казалось, всё предопределено – святыня будет уничтожена…
Но на всё воля Божия. Началась война, стройка символа победившего коммунизма прекратилась, и стальной каркас дворца начали разбирать – был нужен металл для нужд обороны Москвы. Храм покрыли светомаскировкой, и он сохранился. Это тоже чудо: вокруг храма, там, где теперь большой сквер и новые дома, всё было уничтожено немецкими бомбами. Конечно, фашисты метили не в храм, а в Кремль, который совсем рядом, но промахивались, и к окончанию войны вокруг церкви стояли пустые огрызки от прежних жилых домов. А в храм все больше стало приходить молящихся, в том числе и в военной форме.
Знаменательное событие для храма Илии Пророка произошло 15 июня 1944 года. По распоряжению Патриарха сюда из храма Воскресения в Сокольниках (в котором много лет хозяйничали обновленцы) была перенесена почитаемая как чудотворная икона Божией Матери «Нечаянная Радость». С тех пор настоятель храма Илии Пророка протоиерей Александр Толгский постоянно служил молебны перед этой иконой.
Прошло 70 лет, но я совершенно явственно вижу те чудесные преображения, которые были у иконы «Нечаянная Радость»: к ней (точнее, не к ней, иконе, а к Самой Деве Марии) подходили в слезах матери и жены воинов Отечественной Войны и, приложившись к святыне, отходили, озаренные надеждой и уверенностью в получении нечаянной радости.
Конечно, на меня это производило огромное впечатление, и было самым главным уроком за всю войну.
В День Победы в храме, наверное, было больше военных, чем обычных прихожан. Я не видел разве что генералов, но пришли полковники, майоры и, конечно, масса рядовых и сержантов, все с орденами и медалями, а многие с нашивками на груди, свидетельствующими о полученных на фронте ранениях.
После благодарственного молебна многие сразу пошли на Красную площадь. Там было так же многолюдно, как в храме. Раздавались крики «Ура!», «Мы победили!», военных подхватывали и подбрасывали вверх, а потом обнимали и расцеловывали. А какой был восторг, когда начался салют!
Мы, москвичи, к концу войны уже стали привыкать к салютам, их бывало по нескольку за один вечер . . . Но такого салюта, как в тот день, я больше нигде и никогда не видел: по кругу, наверное, над Садовым кольцом, летали тихоходные самолеты (их видно не было — уже стемнело), и с них почти беспрерывно стреляли разноцветными ракетами, в небе над всеми нами создавался огромный, фантастически живой купол… и снова крики «Ура!», «С Победой!», объятия и поцелуи.
Конечно, я много раз в разных кинофильмах видел сцены ликования на Красной площади в День Победы, но мне кажется, что ни одному режиссеру не удалось воссоздать тот дух национальной гордости, который тогда объединил победителей со своим народом. Я этой мыслью поделился со своим братом, фронтовиком, военным писателем Вячеславом Кондратьевым, и он мне сказал, что такое глубинное духовное переживание не может быть во всей полноте репродуцировано никаким искусством.
И те случаи духовного преображения у иконы «Нечаянная Радость» в храме Илии Пророка, которые я сейчас вспоминаю, тоже не могут быть сыграны даже самыми великими артистами. Наглядные уроки силы духа ненавязчиво и естественно были восприняты моей душей.
P.S. Всё пережитое в годы войны, что сейчас вновь предстало передо мной, заставляет как-то по-иному посмотреть на своих ровесников по тому времени: 8 – 12-летних мальчишек. Мы, взрослые, недооцениваем их инициативу, возможности, самостоятельность в действиях и в суждениях и способность извлекать уроки из жизни. Я очень благодарен судьбе за эти военные уроки и, конечно, своим родителям, научившим меня видеть, слышать, чувствовать и понимать.
70 лет спустя
Глядя на уроки жизни мальчишки-москвича, полученные им в годы войны, я осознаю, что они создали тот фундамент моей личности, на котором сформировалось чувство долга заботиться не только о своей личной матери, но и обо всем, что включает в себя понятие Родина-Мать. Её тревоги, страдания и горести, её заботы о нашем благополучии и нравственной силе, и её радости за нас, членов её большой семьи, – всё это стало и моими тревогами, страданиями, заботой и радостью. Из тех далеких лет пришло чувство единения со своим Отечеством, видение его настоящего и будущего.
Всё написанное я посвящаю светлой памяти моей мамы – Кондратьевой Валентине Алексеевне.
Кондратьев Федор Викторович, рождения 17 февраля 1933 года
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.