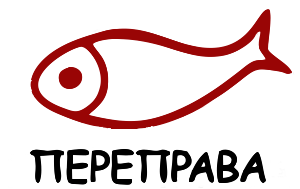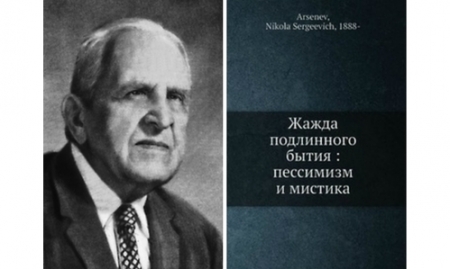Выбор. Валентин Курбатов - О книге "Жажда подлинного бытия"
Поневоле улыбнешься. Эта книга Николая Арсеньева (рукопись её) пришла ко мне от издателя последней. Я должен был написать к ней вступление. Мысль была если не верна, то интересна, - чтобы книги прекрасного русского ученого, историка и теолога были предварены одним читателем из православных прихожан, открывающих свою церковь после долгого разрыва традиции. То есть тем, к кому собственно и были обращены книги Николая Арсеньева. Это должно было быть мое четвертое предисловие к нему. Ксерокс с берлинского издания, исполняющий роль рукописи, утаивал год написания и выхода книги. И я уже готов был счесть ее заключительной из читанных прежде книг – так знакомы и так часто цитируемы были равно поэтические, мистические, буддийские, суфийские, протестантские и католические источники. Так был знаком основной круг мыслей о духовном томлении мира, о живом единстве человечества, исповедующего Бога в разных национальных одеждах, и о всеразрешающей силе Христова страдания и воскресения. Но, не найдя выходных данных, заглянул в энциклопедическую справку об ученом и увидел, что она как раз первая в уже прочитанном мною ряду. Она выпущена в Берлине в 1922 году, когда Арсеньев после отъезда из революционной России читал исторический и теологический курсы в Кенигсбергском, Рижском и Варшавском университетах.
И сразу стали понятны и поэтическое напряжение, и сорок семь страниц примечаний (едва не четверть книги) мельчайшим шрифтом с полутысячей источников, и осмотрительность в использовании термина «православие». В пору написания книги автору 33 года, он только-только из России и ему еще надо доказывать высокую осведомленность в предмете и глубину профессиональной вооруженности. А католическая и протестантская среда побуждает больше говорить о «просто» христианстве и объясняет отчасти и то, почему он уходит от разговора о догматике, предпочитая евангельские и апостольские свидетельства. И почему все подчеркивает и подчеркивает, что Сын Божий жил, страдал, погиб и воскрес не на высотах умозрения, а в простой подлинности, в которой ученики не только слышали, а говорили с Ним, касались Его, хоронили, вкладывали персты раны, убеждались в реальности воскресения. Так ему легче, даже и не говоря о православии, чувствовать себя сыном родной ветви христианства. Но до воскресения, которое у него всегда пик книги, он и тут проходит долгую дорогу. Во всех читанных мною его «рукописях» (и в этой!), если он во вступлении не оговорил год написания и если тот не выставлен на титуле книги, напрасно искать примет реального времени. Словно окна на улицу тщательно зашторены и «действие» всегда происходит в «библиотеке». И библиотеке собранной не вчера, без новых «поступлений». Ну, может, понятно, почему нет «наших» - ни Бердяева, ни Шестова, ни Ильина, ни отца Сергия Булгакова, ни всей кипящей религиозной мысли той поры – высокомерная кенигсбергская тень Иммануила Канта не пускает. Но ведь вот и Ницше даже «случайно» не мелькает, хотя он определяет в германской мысли той поры все больше и больше. И даже в примечании не поминается повсеместно обсуждаемый тогда скандальный «Закат Европы» О.Шпенглера, который раздражил немецкую академическую мысль, как у нас недавно раздражил русскую мысль «Бесконечный тупик» Д.Галковского. Нет, тут опыты беспримесны, лаборатория чистая. И живой уличной истории путь в книгу заказан. Может быть, он просто устал от революционного хаоса, от торжествующей «газеты», от злой новизны, от нарочито выталкивающей Бога реальности, поспешно согласившейся с Ницше, что «Бог умер». И от усталости искал покоя в университетской тишине академической мысли. А то и доказывал свою «благонадежность». Но мне кажется, что как раз в этой внешней отвлеченности и было его сопротивление миру, вызов ему.
«Газета» норовила тогда накрыть собою мир. «Мирская чаша», как звал современное Арсеньеву народное кипение М.Пришвин, надеялась заменить Чашу Евхаристии.
Не помню кто, зло передразнил в те дни финал блоковских «Двенадцати»: «В белом венчике из роз впереди идет матрос». Он шел тогда не у нас только, но в Венгрии, Германии. Воздух был отравлен улицей, летучим днем, скоропортящейся правдой мгновения. А Арсеньев вот именно в этот час уходит к Будде и Христу, Магомету и Лютеру, Платону и Лао Тзе, читает мистические стихи и откровения и спокойно ждет, когда мы догадаемся, что улицы мимолетны, а небесная мысль вечна. Мир насквозь пропитан рационализмом и объективизмом, пирующей логикой - поневоле закроешь окно на улицу: дух живет на других пространствах.
Но то, что он начинает книгу с анализа мирового пессимизма, говорит, что «шторы» в библиотеке все-таки не вовсе непроницаемы. Правда, пессимизм и все формы человеческого отчаяния спровоцированы у него не историей, а тем, что экзистенциалисты скоро назовут «заброшенностью в мир», тоской по ускользающему смыслу, страхом смерти, «случайностью» жизни. Но ведь и это тоже только подсказка, что «возмущенный разум» скоро «откипит» и человек останется наедине с собой и вопросом: зачем? Перед вечным экклезиастом, навсегда сказавшим, что всякая история тщетна и «нет ничего нового под солнцем». Или, как это на полях «Фауста» безжалостно сказано нашим Пушкиным «Ведь мы играем не из денег, а только б вечность проводить». Проведи-ка её! Тут же сразу выпрыгнет иронический смысл: не проведешь! И поневоле выглянешь на свою улицу. Как ни громко смеется наше телевидение, как ни славно поёт нынешняя Мэри по просьбе Вальсингама, стараясь перекричать уличную чуму, - не проведешь.
И вот в этот-то час последнего отчаяния, по Арсеньеву, навстречу человеку и выходит Бог, который никогда не оставлял беднягу, да только тот бегал за этой самой историей и не видел ожидающего его Бога. И словно в утешение человеку автор скликает мировые религии с их опытом преодоления смерти, а в самих религиях самых зорких детей, которые в награду за неутолимость жажды видели Бога лицом к Лицу, не возгревая себя, а только любя, страдая, зная послушание и самоотвержение, и полное поручение себя Богу, тому началу, что в Господней молитве зовется «Да будет воля Твоя». Целое человечество святых и мистиков Испании, Индии, Персии, Греции, Египта, Византии, России проходит перед нами в слепящем свете благодати, в сияющей немоте любви. И какая наука может противостать им, поставить плотину рассудка против этой сокрушающей любви? В старых «ручных» типографиях Николаю Александровичу Арсеньеву, наверно, не хватило бы заглавных «Н» для его апофатического называния-неназывания Бога, для его Неисследимости, Непостижимости, Неназываемости, для великого Нечто перед человеческим Ничто. И высшие из мистиков подтверждают эту неназываемость, крича, как индийские брахманы: «Нет!Нет!», которое есть самое невыразимое «Да!». Или, как Екатерина Сиенская просто бессильное «А!А!», с которым она металась по монастырскому двору и которое есть тоже «Нет!» и то же «Да!» И в этих мучительных «бессвязностях» более и вернее всего и видно, что Бог не может успокоиться без нашей любви к Нему, сходя к нам всё ближе, ближе, просто становясь нами и выше нас страданием, и распятием, чтобы мы услышали, наконец, как дороги мы Ему и как он ждет всех нас. Именно всех, потому что мы и есть Его полнота.
Может быть, православному человеку этот текст будет немного «жать». Мы уже за века самозащиты от чужих религиозных вторжений привыкли глядеть на другие веры с подозрением, но мне почему-то кажется, что в арсеньевском уважении к чужим проявлениям святости есть что-то от той «всемирной отзывчивости», которую Достоевский славил в Пушкине и в самом русском характере. И как Федор Михайлович готов был целовать старые камни Европы, где «дорогие лежат покойники», так Арсеньев целует бедные ризы и раны святых Индии и Египта, Малой Азии и Рима, чтобы тем ярче засияло для них (не для него одного!) Христово имя. Тут голос автора особенно возвышается и он из книги в книгу не устает повторять, что по существу Христос первым по-настоящему и навсегда победил закон умирания. И в других религиях было знание Бога и встреча с Ним и преодоление смерти, но только с явлением Сына Божия становится осязательно ясно, что страдание не случайность жизни, не помеха любящему познанию Бога, а необходимое условие. Что страдание – есть врата к Христу, и войти ими можно, только поручив себя Богу, через Его встречную волю, ибо Он отдает себя человеку первым в своем страдании, своей смерти, своей Богооставленности, своем сошествии в ад.
Философ почти с нежностью пишет об апостоле Павле: «Трогательно, как он постоянно всё снова и снова возвращается к тому же, не боясь повторения, не заботясь о логическом движении вперед». О, этот порыв и эта повторительность так понятны! Он и сам возвращается к уже цитированному так же неустанно и тоже не торопится «вперед», ибо этого «вперед» в Христовом времени нет. Это и было для человеческой мысли камнем преткновения. Это и побуждало время отвергать Христа, провозглашать «смерть Бога». Человеку хотелось остаться в истории, в «мире сем», а Христос звал его вырваться из дурной экклезиастовой бесконечности. И потому мешал не одному Ницше, не одному великому инквизитору Достоевского, не одним молодым революционным своевольникам, скоро сочинившим лженародную поговорку «Раньше без Бога ни до порога, а теперь без Бога – широка дорога» (и непременно Бога с маленькой буквы), но и всей философии истории. Как они смогли бы пересечься – Арсеньев и Шпенглер, если у немецкого философа, по замечанию переводчика и комментатора «Заката Европы» Карена Свасьяна, Христос не фигурирует в «Закате» вообще «за вычетом отдельных «технических» упоминаний в первом томе и двух-трех во втором в связи с большевизмом и Толстым. Крайне симптоматичным (продолжает комментатор) уже для характеристики эпохи выглядит тот факт, что имя Христа не встречается так же ни у кого из более, чем двухсот корреспондентов шпенглеровской переписки, включая философов, историков и теологов обоих христианских вероисповеданий» (разумеются католичество и протестантизм – В.К.)
Второй том «Заката Европы» вышел в Германии в один год с «Жаждой подлинного бытия» и они противоречили друг другу уже самим именами – «Закат» и «Жажда». И когда бы был высокий третий ум, который положил тогда эти книги рядом, он увидел бы эти параллельные человеческие пути с совершенной наглядностью, увидел бы прямую необходимость выбора, перед которым стоит человек. И векторы этого выбора обозначены самим Шпенглером, как раз в этих «двух-трех упоминаниях» второго тома. Они таковы: «существование, которое пользуется бодрствованием или бодрствование, покоряющее существование, ритм или напряженность, кровь или дух, история или природа, политика или религия. Третьего здесь не дано и не существует правильного сравнения… Глуп властитель, пытающийся улучшить религию, приспособить ее к политическим, практическим целям. Точно так же глуп проповедник, пытающийся принести истину, справедливость, примирение в мир действительности. Ни одна вера не смогла изменить мир и ни один факт не может опровергнуть веру. В этом заключается истинный смысл того момента, когда Пилат и Христос стояли друг против друга».
Они и сейчас стоят друг против друга – отрицающие друг друга факт и истина. Для настоящего мыслителя, слышащего обе стороны, это противостояние всегда страдание, но он все равно делает выбор. Шпенглер выбрал факт. Арсеньев – истину. Но Шпенглер отрицал возможность их взаимного согласия и диалога, предпочитая учению Христа учению о Христе, а Арсеньев с апостольским пламенем искал диалога, видел не только его возможность, а неизбежность, если человечество хочет зваться христианским не по имени, а по сердцу существования.
Эти две навсегда несовременные в тесном понимании дня и тем всегда остро сегодняшние книги горько драматичны, потому что слышат глубину противоречия и страдание человека, всегда стоящего между Христом и Пилатом. Я тут же вспоминаю дневниковую запись Софьи Андреевны Толстой: «У нас стычки. Верно, это потому, что по-христиански жить стали. По-моему, прежде без христианства этого много лучше было». И сразу вижу батюшку (не скажу, какой епархии, чтобы ему не попало), который крестит японку, показывая ей на запрестольный образ Спасителя со словами: «Вот настоящий самурай! Когда оказываешься перед выбором, выбирай смерть, и она будет твоей победой». Японскому сердцу этого было достаточно. Так что выбор зависит не от национальности и не от времени, стоящего на дворе. Арсеньев опытом революции и России выбирает страдание и воскресение и сознательно уходит из истории и философии в вечное бодрствование, ищет лучшего в человеческой душе. И оказывается убедителен именно потому, что открывает силу истины в движении и томлении собственной души. Сам стремится с псалмопевцем, «как лань на источники вод». Кажется, он все время спрашивал, как сельский священник католического писателя Жоржа Бернаноса там ли он, где в этот час Христос, там ли, где живет «устрашающая простота Бога», в доме ли он торжества или в доме бедности. И всегда остро видел худшую из бедностей – пораженный рационализмом мир, который все безнадежнее задергивает над собой спасительный полог неба, самоубийственно лишает себя жизни преизбыточествующей (любимое слово апостола Павла) и подлинного бытия. Все мы за «общество», за историю, за «факт», за Пилата хотим спрятаться, хотя уж давно должны были увидеть, что Бог приходит к человеку, а не к обществу и что общество умирает в истории, а человек живет в вечности. Человек «не входит» в историю целиком и в этом несчастье и неизбежное поражение всех преобразований и революций, всех веков и народов. И сегодня, когда история, по слову осмеянного, но не опровергнутого Ф.Фукуямы, кончена в своей римской твердости империй, законов и войн, ум у нас всё остается историческим. И мы трусливо поддаёмся ему, не решаясь выйти из-за крепостных стен под звездное небо и выбрать слабость, которая одна сулит железо веры и призываемое митрополитом Антонием Блумом «мужество молиться». Не решаясь выбрать Истину и Жизнь и сказать вместе с К.Леонтьевым, что «есть Бог и моё спасение, а там что Бог даст». Всё норовим закрыться от этой простой правды гуманизмом, моралью, «гражданским обществом», «правами человека», хотя вместе с тем же Леонтьевым знаем, что «естественная мораль одна, без таинства религии, – не душеспасительна: она очень приятна.., она эстетична, удобна, уважительна и может устыдить плохого христианина указанием, например, на доброго турка. Но как не христиан будет судить Бог, мы не знаем. А для нас есть хоть общие правила».
И они, эти «общие правила» в книге Арсеньева при всей ее «библиотечности» сияют как звезды. Самонадеянное время легко увидит в спокойно-грозном зеркале этой книги, что оно без постоянной памяти о Христе только сон и мимолетность, и определяет существо мира не оно, такое с виду уверенное в земной своей правоте, а всегда и навеки те «двое или трое, собравшиеся во имя Его», чтобы утолить жажду подлинной, не изменяющей человеку преобразующей жизни. И их твердость всё оставляет человеку возможность снова и снова с благословенной и мучительной неуспокоенностью делать свой выбор.
Валентин Курбатов
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.