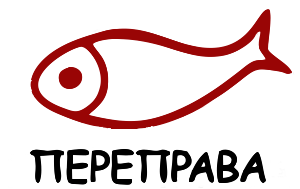Максим Лаврентьев – давний автор Переправы и наш друг.
Максим Лаврентьев. Видения земли. — М.: Литературная Россия, 2012. — 128 с.
Когда от лирических массивов начинает рябить в глазах – поэт ищет почву в эпосе, в повествовании о людях и событиях, наконец, в прозаизмах. И на этом пути подчас случаются победы. Прозаизмы в стихах, пожалуй, обаятельнее поэтической прозы. С повествовательности начался «забавный русский слог» в поэзии – когда Дашкова опубликовала в первом номере журнала «Собеседник» оду татарского мурзы к богоподобной Фелице. Там был найден онегинский слог. А уж «Онегин» и называется романом – это манифест прозаизации стиха! Без поэм и повестей в стихах невозможно представить себе и Лермонтова, и Некрасова, и Полонского. А баллады Алексея Толстого? Сказания, легенды в стихах, анекдотцы – как «Опасный сосед» Василия Львовича Пушкина – всего этого вдоволь было в XIX веке. Я начал с историко-литературного отступления не только потому, что для меня поэзии не существует без большого антологического контекста. Автор, о котором пойдёт речь, читал русскую поэзию XIX века внимательнее, чем это принято. К сожалению, много лет у нас если читают – то Пушкина и Серебряный век. В крайнем случае – ещё Державина и экзотически архаичных поэтов XVIII века. А чистая послепушкинская интонация пропала. В последний раз россыпь «маленьких поэм» нам представлял поэт, которого Лаврентьев не любит – Сергей Есенин.
Новая книга Максима Лаврентьева называется «Видения земли» – но это, мне кажется, отвлекающий манёвр. Сразу обращает на себя внимание, что перед нами поэтический сборник, в котором сразу десять поэм. Этот факт перевесит любое туманное название. Для читателей, которые эту книгу полюбят и запомнят, она останется сборником поэм – как площадь Трёх вокзалов затмевает наименование «Комсомольская». «Видения земли» – это ещё и заголовок одной из поэм, последней, пожалуй, самой автобиографичной и меланхолической:
Решили с другом съездить в Подмосковье –
пособирать осенние опята,
по лесу побродить да жизнь обкашлять.
Среди недели (я тогда работал
редактором журнала «Литучёба»
и потому был нищенски свободен,
а Саша – вольный человек по сути)
в полупустую сели электричку
и скоро с Белорусского вокзала
в Звенигород отправились.
Когда-то
меня туда возили в детский лагерь…
В безрифменном пространстве самое важное – точное и неожиданное словоупотребление.
В поэмах Максим Лаврентьев во многом укротил и ограничил себя – таковы условия игры для рассказчика. И доказал, что умеет, используя ограниченный, аскетический арсенал приёмов, умеет лёгким поворотом строки кольнуть, удивить – без перебора. В созданной им заводи лёгкий плеск воды производит впечатление взрыва. Честно говоря, мне в последнее время только такие стихи и нравятся, но современники почти не владеют строгим искусством меры. Есть ведь не только чувство, но и великое искусство меры! Когда-то я сделал очень личное гастрономическое открытие. В нашем доме лимон разрезали большими кружками. А потом я пошёл в первый класс и на завтрак там подали чай с осьмушкой лимона – и этот вкус меня пленил! Вот оно, искусство меры, без которого настоящую поэзию не заваришь. Фокусы, трюки, памфлеты и разрывание чувств на клочья – это тоже иногда хорошо, но умеренность есть лучший пир.
Исключения случаются – и блистательные. Иногда и дурной вкус идёт на пользу, и даже истерика, когда всё скрежещет, гудит и взрывается.
Но начинается поэзия с отбора, с языкового самоограничения. Самое замечательное качество поэм Лаврентьева – их немногословность. Паузы и недосказанность. Поэма не может быть короче среднестатистического стихотворения! Современные поэты болтливы: к этому располагает ворд, не говоря уж о социальных сетях. А у Лаврентьева – строгий отбор слов и немало фигур умолчания.
Извечная проблема «повестей в стихах» – прямая речь. Язык трагедий Сумарокова тут не подойдёт. Глоба заставил Пушкина говорить незамысловатыми стихами – это тоже мимо. Лаврентьев написал десяток поэм, кажется, на одном дыхании – но это обманчивое впечатление. Он не отбрасывает сюжеты и замыслы, возвращается к ним через годы. Наверное, примерно так и приходится подбирать слова не только для лирического самовыражения, но и для героев, которые далеки от авторского «Я». Возможно, на втором десятке поэм Максим ещё дальше уйдёт от лирики. Появятся главные и второстепенные герои, откроется даль свободного романа...
Они не похожи одна на другую, эти маленькие поэмы. Вот как начинается «Кольцо»:
I
Там, где на месте сталинской воронки
поднялся вновь дебелый храм Христа,
покинул я ту сторону Волхонки
и перешёл на эту неспроста:
признаюсь вам, в Российский фонд культуры
я нёс бумаги для какой-то дуры.
II
И опоздал, конечно. (Как назло
всё время попадаю в передряги!)
Обеденное время подошло.
Ну что ж! Охранник передаст бумаги.
Пускай она заслуженно поест,
а мне пора освободить подъезд.
Тут отточенная самоирония, которой впору бойкий слог. Забавный, непринуждённый разговор – из тех, что ценили поэты и двести лет назад. Мне нравится эта прогулка по бульварам, потому что автор – отъявленный москвич, понимающий даже неразличимые оттенки города. А шествие по бульварному кольцу обрывается, как обрывается само бульварное кольцо – оно ведь, честно говоря, не образует круг, попятившись от Замоскворечья.
Изысканно лаконичен и многозначителен в паузах «Колокол». А больше всего мне по душе «Летопись»:
Джимми Картер занял место в кресле,
в комнате похожей на овал.
За полночь покинул Элвис Пресли
здание, что Брейгель рисовал.
Норман Хартнелл к прежнему почёту
получил себе приставку «сэр».
Принята четвёртая по счёту
Конституция СССР.
По шестнадцать строк на каждый год, начиная с 1975-го. Танцевальный перечислительный ритм. Правда, всё обрывается 1984-м годом, а хотелось бы продолжения. Впрочем, позавчерашние газеты всегда благороднее злободневных.
А вот язвительные «Картинки с ярмарки» рядом с другими девятью «маленькими поэмами» потеряли обаяние: в контексте сборника получается больно уж мелочное высказывание:
Щебечут дебютанты
из поросли тернистой,
путаны, депутаты,
плуты и путинисты.
Толкают фармацевты
различные рецепты,
политики - идеи,
сатиру – иудеи,
признания – артисты,
писание – баптисты,
псих – квадратуру круга,
а пидоры – друг друга…
Задирать братьев-писателей, завсегдатаев Массолита – дело неновое.
Десять поэм – сильный ход. И велик риск, что оставшиеся 47 стихотворений будут выглядеть довеском. Почему Максим не ограничился «маленькими поэмами» – уж явно не «для солидности» он дополнил «Видения» избранными, как говорится, стихотворениями разных лет. В этой подборке тоже заметно движение в сторону от лирики. В лучших стихах Лаврентьева – взгляд со стороны, панорамные картины, холодновато произносимые истины – далеко не всегда прописные. В лучших стихах волнение и боль – на дальнем плане, в подтексте. Стихотворения, отмеченные очевидным исступлением страстей, вышли проходными. Но таковских в книге немного. Быть может, одно.
Разгадать композиционные секреты книги мне не удалось. Хотя предполагаю, что последнее стихотворение – хлёсткое и беззаботное – призвано оттенить сурьёз и печаль натурфилософских раздумий:
Не пиши о всякой скверне,
вообще на это плюнь –
погляди, как в нашем сквере
благоденствует июнь.
Что за чудная картина!
Жизнь прекрасна. Мир хорош.
Отчего же ты, скотина,
этого не признаёшь?
Что ты ходишь вечно хмурый,
говоришь на всё «фигня»?
Со своею музой-дурой,
со своей литературой
ты уже достал меня.
Кто знает – быть может, без «Картинок с ярмарки» и «Не пиши о всякой скверне…» книжка произвела бы слишком сановитое впечатление.
Арсений Замостьянов
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.