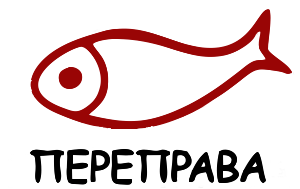Рембрандт Харменс ван Рейн - Портрет старушки. 1654. Фрагмент
1.
Старушка и не заметила, как сделалась старушкой. Сначала старушка была девочкой, просто девочкой. И мама, старушкина мама, весной водила ее за ручку по степям степного Алтая. Потом – девочкой-школьницей, пионеркой. Потом – девушкой, студенткой, любимой. Потом – технологом, матерью, профоргом, женой. Потом – активной, деятельной молодой пенсионеркой, да еще вдобавок и бабушкой. А потом глядь – старушка.
И вот стоит старушка утром, стоит у зеркала и разглядывает свое постаревшее, свое поношенное, осунувшееся свое тело. Свою боль. Свой вислый живот, свои распухшие узловатые ноги. Свои разползшиеся по подмышкам вялые груди. Свою сморщившуюся, как кора, шею. Стоит и думает: «Да как же это так вдруг? Да когда же это всё стряслось?»
А и ум у старушки ясный, и душа совсем молодая. И сердце здоровое. Вот только вот тело, только вот оболочка треклятая.
А и разглядывает себя в зеркале старушка, конечно, не каждый Божий день, а только сегодня, потому что сегодня у старушки день рождения, даже юбилей. Сегодня стукнуло старушке 80. А это значит, что сегодня придут к ней Старшенький и Младшенький, что принесут в подарок что-нибудь ну совершенно бесполезное, ну чушь какую-нибудь. Ну например, махровый яркий такой халат. А у старушки их уже семь – сложены-уложены. Три с капюшонами, четыре без. С капюшонами на один меньше, потому что Младшенький позапрошлый год об эту пору был в командировке.
Старушка смотрит на себя в зеркало. Гладит ноющие нагие ноги. Вчера днем взяла старушка клюку («Трость! Эбеновое дерево! Набалдашник от Юдашкина!» - балаболил, даря, Старшенький), побрела через дорогу в парикмахерскую. Там завила, подстригла, подсинила, уложила свои жидкие седины. Поговорила о жизни с женщинами. На обратном пути, оберегая прическу, не надела платок, вспомнила, что последний раз выходила из дома в декабре. А теперь – апрель. То есть аж в прошлом году.
Возвратилась еле жива. Только прилегла отдохнуть – приехал Младшенький, привез два куля еды, долго шуршал в холодильнике, инструктировал где что, проверял порядок. Потом уехал – спешил. А прически новой так и не заметил.
Старушкин юбилей в этот год удачно пришелся на субботу, так что она позвала гостей на пораньше, на 2 часа. Да и каких там уж гостей? Одних детей. Остальные гости, почитай, все перемерли или лежат вконец обездвиженные. Так что пора старушке уже одеться и захлопотать по хозяйству, пора начинать уже потихоньку-потихохоньку накрывать на стол. Его, слава тебе Господи, раздвигать не нужно, потому что и будут-то только Старшенький и Младшенький с супругами, да может быть Олюшка, внученька, забежит ненадолго. Очень уж занята деточка. Так что посидеть можно и на кухне. В тесноте, как говорится, да не в обиде. И посуду праздничную доставать не стоит. Сойдет и будничная. Все ведь свои. А вот свечи в принесенный Старшеньким торт вставить хорошо бы загодя, чтобы не томить потом гостей. Но пальцы плохо слушаются старушку, тоненькие скользкие палочки не сразу ухватываются, да и торчат из крема вкривь и вкось. И старушка на тридцать втором своём году махнула на эту свою затею рукой, села попить чайку с молочком.
Младшенький пришел ровно в 14.00. Ткнул старушке в глаза часы. Сказал: «Здравствуй, мамочка, с днем рождения, дорогая мамочка. Долгих лет тебе жизни». Преподнес апельсинового цвета халат с капюшоном. Пришел не один, а во главе всей фамилии. Старушка кинулась было целовать Олюшку, но у Олюшки зазвенел мобильный и Олюшка сказала: «Ну Ба!» - и заперлась в ванной.
Пока Младшенький аккуратно снимает с Виктории Анатольевны пальто, пока вешает его на плечики и в шкаф, пока прибирает Олюшкины кроссовки, пока раздевается сам, пока кричит Олюшке, чтобы та там, в ванной, не забыла помыть с мылом руки, пока Виктория Анатольевна охорашивается перед зеркалом, старушка стоит с халатом в обнимку – ну дура дурой. Но потом все пошли в комнату рассаживаться. А старушка похромала позади. Добралась – а они уже сидят как для фотографии. Младшенький посередине в нежно-сиреневом галстуке, Виктория Анатольевна целомудренно одергивает юбку слева, а Олюшка забралась с ногами справа, слушает плеер. Так они и прошлый год сидели.
А Старшенького что-то всё нет. Старшенький где-то задерживается. Потому и пауза. Тут и Виктория Анатольевна чувствует неловкую напряженность. Вскидывается тут она и с возгласом «ах, цветы!» убегает в прихожую. Шуршит там пакетом, звенит на кухне стеклом, шумит водой в ванной – и вносит букет в вазе. Тут Младшенький говорит: «А вот еще, мамочка, тебе таблетки. На три с половиной почти тысячи». «Спасибо», говорит старушка, а сама их побаивается. То есть не столько Младшенького, сколько Олюшку, а пуще Викторию Анатольевну.
И вот наконец звонок зазвенел, ключ заскрежетал. Наконец. И вот наконец собрались. И вот сидят рядком, гомозиготные вы мои. А Старшенький старше Младшенького всего-то на семь минут. И это только старушка их так, да и то про себя, и то в глубоком секрете для себя называет.
Старшенький на этот раз с фантазией. Дарит тапки и лилии. «На, мать, задохнись». А Старшенький уже, видать, по пути где-то перехватил. Пришел растрепанный, размахался руками. Штаны мятые, пузырятся на коленях, висят на заду мешком. На воротнике – пятно. И прямо с порога давай паясничать. «Ну мать, - кричит (потому что всегда он ей всё кричит, потому что помнит, что старушка недослышит), - ну ты даешь, мать! Это у тебя что на голове такое голубое? Это папаха что ль? Гля, ребя, мамаха в папахе! Да нет, не папаха это! Это у тебя каре! Или гарсон? Или даже сессон? А то и боб! Ну креативная, в общем, прическа. И я это серьезно, мать. Учти». А старушка сердится, хмурится, но и приятно ей, что сразу заметил.
«И правда, - ровным голосом спохватывается Виктория Анатольевна, - очень удачная вышла прическа». «Всю ночь меня вылизывали две рыжие таксы, – перебивает Викторию Анатольевну Старшенький. – Это к деньгам. И к большим деньгам». Виктория Анатольевна смолкает, поднимает брови и поджимает губы. Младшенький кладет руку на Виктории Анатольевнино колено, чтобы та чего гляди не взбеленилась. Не любит она Старшенького, знает про это старушка, нет мира в семье.
«А ты почему один? Где твоя Галина?» - строго спрашивает старушка Старшенького. «Нету Галины, - орет тот. – Кончилась Галина! Списана в утиль! Сдана на переплавку!» Тут даже и Олюшка вынимает из уха наушник. «Что, дядя, тётя Галя наконец-то тебя бросила?» - спрашивает. «Я ее бросил. Выбросил. Я! Пойми, прелестное дитя!» - орет тот. «Не называй меня больше никогда прелестным дитём, ну я же просила», - говорит Олюшка и снова погружается в мир музыки. «Ох беда», - думает старушка. «Пропадет теперь совсем», - думает она. А жаль. Галина-то была ничего. И аккуратная. И слушала, и отвечала впопад. Жаль её, Галину. То есть не Галину, конечно, что ей, Галине, сделается, – Старшенького непутёвого жаль.
Ну вот так вот и посидели дружненько, по-семейному. Старушка даже выпила два глотка шампанского вина. Правда, Старшенький первое время хулиганил, рта раскрыть никому не давал. «Мы с тобой, мать, - говорил, - разведем тебе тут на подоконнике огород. Ты будешь выращивать, а я продавать. И – заживём». И верно, был когда-то у старушки огород. Была такая отрада. Но зря всё-таки он напомнил. И потом еще что-то несуразное балаболил. Но скоро затих, задремал. А старушка тревожится за него. Куда больше, чем за Младшенького. А Младшенький знает и обижается там, внутри. Но тут уж ничего уже не поделаешь.
Вот так и посидели. Первой упорхнула Олюшка. Потом Младшенький отнёс уложил квёлого Старшенького на диван, прикрыл покрывалом, подоткнул. Потом, пока Виктория Анатольевна рассказывала старушке про свои кафедральные дела и интриги, перемыл всю посуду. А тот, на диване, застонал, заворочался чего-то, но сразу затих и захрапел. А и Младшенький с Викторией Анатольевной вскорости собрались и ушли. И оставили старушку вдвоем с её болью.
2.
Ночь напролет старушка проругалась с Богом. За что, спрашивала, определил Ты мне такую муку? Чем я перед Тобой провинилась? Чем Тебе так уж не показалась? Вон Валентина Игнатьевна померла в одночасье да еще и во сне. Вон Зоя Степановна на ноябрьские слегла, а к Рождеству – уже в Раю. А меня терзаешь считай третий год. Чем же я таким Тебе не угодила? За какой грех такая кара? Отпусти Ты меня, Господи. А лучше исцели. Бог молчит. Тогда старушка обижается и плотно закрывает глаза. Завтра старушке исполнится 81 год.
Старушка уже давно не спит по ночам. Лежит, сжавши зубы. Смотрит в полосатый от фонарей потолок. Прислушивается, как шила, иглы, гвозди, пилы впиваются в коленные её чашечки, в тазобедренные суставы, в позвонки. Лежит не шевелясь. Шевелиться – оно себе дороже. Оно больно. Старушка сначала думала, что хворь ее – временное явление. Ну прихватит и отпустит. Ну что, не бывало такого разве раньше? Но теперь-то старушка уже понимает, что не отпустит. Что никогда, что до конца не отпустит. И лечи там уже не лечи. Всё одно.
Старушкино пространство всё узилось. Год назад, да, ровно год, день в день, была она последний раз на улице. А летом уже и на балкон не выходила. Да и на кухне старушка бывает редко. Да и к окну не подходит. Можно бы подойти, но трудно. То есть осталась теперь старушке одна постель. Деревянный такой ящик, но пока ещё без крышки.
И старушка помаленьку начала приучивать себя к смерти. Смерть – она ведь тоже забота, тоже хлопоты. Стала думать, где и как надо старушку хоронить. Какой водрузить над ней монумент. И как она там потом будет лежать. Как там будет летом и как зимой. Как будут приходить к ней на Радуницу гости. Как распределить, куда девать нажитое старушкой за жизнь благоприобретенное добро. Какие слова вложить на прощание в конверты со сберкнижками. И черным уже цветом их писать или ещё синим.
А еще к старушке повадились по бессонным ее ночам ходить мертвяки. Полупозабытые подружки юности, товарищи по работе и просто всякий сброд. И чаще всех зачастил Павел Сергеевич, прошлый покойный супруг Паша. Самоубийца. Не выдержал он тогда боли. Всегда в чёрном, с чёрным же дурацким перстнем на левом мизинце. Но приходил какой-то смутный, расплывчатый, не разберешь, молодой ли, старый. И всё просил прощения за свою измену. И всё звал куда-то, всё заманивал, но тоже не очень убедительно. Вяло как-то, неуверенно. «Хорошо тебе там? – бывало, спросит Пашу старушка. А тот только плечами пожмёт и растворяется. Так потом этим вопросом и привыкла она от него избавляться. Ну если уж очень надоест.
Приходила старушкина мама, но редко. Всегда звала погулять в весеннюю степь. Протягивала, вытерев предварительно о фартук, сморщенную загорелую руку.
А как-то в ноябре пришел Старшенький. Тихий такой пришёл. «Не знаю, говорит, мама, как жить, не знаю, мама, что делать. Обрыдло всё, мама». «Ты эту дурь свою из головы-то повыкинь, - отвечает ему старушка. – Ты вон молодой, здоровый, ничего не болит. А не можешь жить, как все, для себя – давай живи для меня или вон для Олюшки». «Да на кой, говорит он, гавно такое Олюшке твоей нужно! У неё вон своего говна-то вокруг…» «Молчи! – обрывает и почти кричит на него старушка, - И не моя она вовсе, а наша. А лучше приходи завтра, я тебе харчо сварю». И он назавтра пришел как ни в чём ни бывало – живой-невредимый. И харчо сварил. И вкусное. Ну он ведь у нее известный повар.
Но вообще-то старушка не любит такие посещения. Утомляют они старушку. Волнуют. Да и об главном – об боли – забыть не помогают.
А утром пришли Старшенький и Младшенький. Одни пришли, без Олюшки, без Виктории Анатольевны. Даже без подарков. А старушка и не вставала. А они просто посидели над ней. Старшенький всё молча гладил её по головке. А Младшенький не стал, не решился, видно. Застеснялся чего-то. Но старушка поняла, что тоже хотел.
Вот так посидели-посидели, да и ушли. Оставили её с болью.
3.
Старушка проснулась рано. Да и не спала она. Лежит на спине не шевелясь и смотрит на шевелящиеся деревья в окне.
А Виктория Анатольевна спешит между тем на метро к молодому любовнику Саше Распопову, к сотруднику, к старшему преподавателю смежной кафедры.
А Олюшка готовится к госэкзамену.
«Старушка, старушка», - тупо бормочет поутру Старшенький, и наливает, и пьет свою водку «Праздничную».
А Младшенький сидит в своем офисе и тоже смотрит в окно. А за окном у него – помойка.
А больше о старушке кроме них никто во всём мире и не помнит.
И не вспомнит.
Алексей Антонов
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.